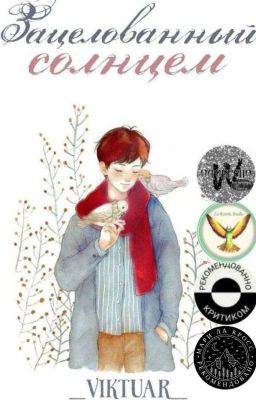2. Убийца
Деревню окутал тёплый мрак майской ночи. Луна серебрила речку вдали, щекотала шепчущиеся между собой камыши и раскачивала развесистые ивы. Здесь, около домика с перекошенной крышей, всегда царил пьянящий запах сирени, всегда слышался звонкий детсткий смех при обнаружении пятилистника. Всегда...
Этой ночью Майрон никак не мог уснуть. Всё вертелся, как юла, в постели, переворачивал подушку, ложился на спину и живот. Льющиеся сквозь стены звуки только раздражали: то стрекотание неумолчных сверчков, то шуршание ёжика в кустах, то шелест деревьев. Вдруг глубоко в его груди начало набирать обороты чувства тревоги, причины которой невозможно было определить. И резко, как по щелчку пальцев, за тревогой пришли страх и ужас. Лунный свет из окна, разрезающий тьму комнаты, померк. Мужчина зажмурился от невыносимой боли внутри. Будто все органы вывернули наизнанку.
Боль быстро прошла и сменилась злостью. Злостью на всё и вся. Сэнна, жена Майрона. Она недостойна жизни. Мужчина не мог сейчас нормально мыслить: весь его мозг был занят необоснованной злобой, которая разрасталась со скоростью лесного пожара. Он снял с себя простыню и на цыпочках пошел на кухню. Мужчина взял нож для рубки мяса, остриё которого сверкнуло при лунном свете, будто подмигивая будущему убийце. Майрон с превеликим предвкушением представлял как нож вонзиться в плоть Сэнны и окраситься в красный.
Он вернулся в комнату, всё также беззвучно, как кот, готовящийся напасть на безззащитную маленькую мышку. Мужчина взглянул на мирное лицо жены. Она тихо посапывала и ни о чём не подозревала. Тридцатилетняя, она походила на старшеклассницу. Её кожа при таком освещении казалась мертвенно-белой. Майрон расплылся в сумасшедшей улыбке и, занеся над головой нож, резким движением всадил в её тело. Кровь разбрызгалась по всей простыне, въедаясь в ткани.
Отлично. Теперь можно заняться мальчишкой. Дан — единственный сын Майрона, приторно-сладкий, как булка с заварным кремом. Бесит и злит одним только существованием. Мужчина побежал в соседнюю комнату как с цепи сорвавшийся в очередном приступе ненависти. Он решил перерезать сыну горло. Но как только его нож коснулся шеи, невиданная сила остановила его. Отец рассвирепел пуще прежнего и продолжил наносить по шее Дана лишь жалкие порезы. Они не могут убить, хоть и следы — шрамы — останутся навсегда.
Тщетные попытки убить десятилетнего мальчика продолжались около минуты, не больше. Потом вдруг Майрона осенило, что нужно спрятать труп. Лучше не тратить пока время на убийство Дана. Он направился в спальню и поднял с кровати бездыханное тело жены. Майрон вышел на улицу и в его лоб врезалась ветка сирени. Обесцвеченные губы Сэнны слегка раскрылись, будто прося о поцелуе. Да, так и было когда-то при их первой встречи под хмельной сиренью много лет назад. Однажды эти нежные лиловые цветочки повенчали их, а теперь и разлучат.
Майрон решил что лес -—лучшее место для сокрытия трупа. Тем более его все бояться. Никому в здравом или в нездравом уме не посетит мысль туда пойти, разве что смертникам. Он порадовался своей находчивости и быстро, не оглядываясь, словно крыса, своровавшая сыр, зашагал к сплошной линии деревьев. Остроконечные маковки сосен надменно глядели сверху вниз на незваного гостя. Лес, угрюмый и нахмуренный, не хотел никого пускать в свои владения. Но Сэнну, на удивление, принял очень любезно. Её тело обвили ветки сосен и потащили вглубь, во мрак, полностью проигнорировав присутствие Майрона.
По-тихоньку всё начало темнеть. Лес, деревня, домик с перекошенной крышей — всё расстаяло в черноте. Майрон проснулся тяжело дыша. Такого ужасного кошмара у него ещё в жизни не было! Он убил собственную жену и пытался убить сына! Приснится же такое... Мужчина на автомате хотел подозвать к себе Дана и попросить его налить немного пива, но тут осёкся, вспомнив, что выгнал его на улицу. Теперь будет тяжелее справляться одному. Сначала Майрон попытался заснуть, но сна не было ни в одном глазу.
Преодолев лень, он опустил ноги на пол и побрёл на кухню за питьём. Наполнив до краёв кружку пенящейся жидкостью, он с такой же быстротой высушил её. Майрон решил дальше пить с горла. Он приставил к губам зелёную бутылку. Пиво стремительно потекло в глотку, а также немного мимо — на футболку.
Алкоголик вытер рукавом влажные губы и сел на стул, опрокинувшись на его твёрдую спинку. Пойло в этот раз не помогло вытеснить стресс, причиной которого являлся сон. Майрон корил себя за то, что мучается от каких-то кошмариков, словно ребёнок. И тут его посетила идея пойти за утешением к его старому-доброму собутыльнику Фрэму. Завтра выходной, а тот имеет привычку напиваться по пятницам, как и все пьяницы, так что сейчас идеальное время. Был только один минус у этого Фрэма —жаден он был очень — ни себе, ни людям. Даже рюмочку водки не нальёт. Поэтому Майрону пришлось захватить с собой несколько своих священных бутылок.
Мужчина вышел на холодную улицу в одних футболке и в тонких штанах для сна. Только сейчас Майрон вспомнил что время цветения сирени уже прошло и настала осень. Нет, он не боялся ни холода, ни болезней, ведь он обладал на редкость крепким иммунитетом, который даже алкоголь не смог испортить. Но физический дискомфорт Майрон всё равно на дух не переносил. Однако на этот раз он не чертыхнулся, а только ускорил шаг в сторону дома приятеля. Ему было очень тяжело на душе, как будто он снова пережил смерть жены. Боль от потери — это когда от сердца оторвали важный кусок, но тебе всё же удалось выжить. Майрону почему-то казалось, что собутыльник-Фрэм непременно избавит от этой точащейся, словно ненасытный червь, боли.
В комнате Фрэма царил минимализм. Над дверьми висела подкова, которая якобы приносила удачу. Удивительно, что он до сих пор её не пропил. А в углу стоял столик на трёх ножках. Одна ножка давно отвалилась и теперь ею служил табурет.
— Вот зачем надо было селиться так далеко от окраины деревни, Фрэм? — спросил Майрон, откупорив бутылку и разлив по пустым чашам золотистый напиток.
— Ты чего скупишься так? Доверху мне наливай, доверху! — возмутился Фрэм — коренастый мужик с раздвоенной спутанной бородой и лысиной на яйцевидной голове.
— Ну я же наливаю, не видишь, что ли?
Только когда пенка начала вытекать из ёмкости на стол, Фрэм успокоился. Майрон никогда не выказывал своего раздражения по поводу жадности собутыльника, ибо боялся что тот обидеться и больше не будет с ним вот так в пятницу пить и вести задушевные разговоры обо всём на свете. А больше не с кем — у Майрона был только один приятель. Тот же не догадывался ни о раздражении товарища, ни о своей жадности.
— А что ты ко мне прибежал на ночь глядя? — сделав глоток горьковатого алкоголя, спросил он.
— Тревожно мне за сына, я его выгнал из дома... — соврал Майрон.
— О-хо-хо! — громко засмеялся бородач, но без намёка на укор или ехидство, — Какие дела малец уже наделал?
— Не слушается совсем. Бездельник и лентяй, что с него взять. Нет, я его конечно люблю...
Люблю? Такого сопливого слова Майрон не мог себе позволить. Он тут же закусил губу от смущения.
— Да! - вознеся чашу с пивом вывысь, торжественно начал Фрэм, — За любовь отца к сыну и за любовь сына к отцу! Она самая крепкая, её ничем не переломить!
Майрон не ожидал такого поворота. Вот этот пьяница, грязный и одинокий, воспевает в тостах за столом в полупустом доме любовь?
Даже в этом пьянице есть душа, нуждающаяся в любви. Это стало видно по блеску в глазах, когда он произносил тост. Майрон неуверенно повторил движение собутыльника и они цокнулись, выпив залпом всё содержимое чаши.
Оба мужчины стали очень задумчивы. Они уставились пустым взглядом на полые чаши. Каждый погрузился в свои мысли. Прийти к Фрэму оказалась плохой идеей. Майрону стало ещё грустней. Захотелось к Дану. К Дану? Как он вообще мог позволить себе такое желание? Да что это за ночь такая странная?
Майрон вдруг осознал что абсолютно одинок. И его собутыльник такой же. Его жена и дети погибли много лет назад — заблудились по пути домой и замёрзли насмерть. Ему только и остаётся, что пить да пить. А ведь Майрон превращается в такого же. Или он уже стал таким? Нет, не может быть. У него есть сын — был и всегда будет. Должно быть, он спит где-то около чего-то дома, трясётся от холода, вжимается в стену. Бедняга. Он плохо одет, заболеть ведь может.
Мужчина направился к выходу. Фрэм хитро поглядел на непочатую бутылку пива, оставленную Майроном. Тот вдруг резко обернулся на полпути к двери, и, не одарив собутыльника ни единым прощальным словом покинул дом.
Зашелестела тёмная зелень, растущая у обочины каменистой дорожки. Прохладный ветерок заставил дрожать Майрона и идти быстрее. Мужчина решил расспросить деревенских о Дане. Он сделает всё, чтобы найти его. Любой ценой. Поднялась рябь, — значит, скоро заря. Жители деревни встают рано, а ранние петухи уже точно пропели. Первым на пути Майрона был дом Дэгги. Замкнутым и злобивым нравом он напоминал его самого.
Дэгги жил в прибранном доме, который выглядел гораздо чище соседских. Окна были занавешены красными вышитыми вручную шторами. А сад сзади — заглядение — ухоженный и постриженный, в строгой форме прямоугольника. Никто никогда, кроме самого Дэгги, не видел внутренность дома. Даже не все видели самого Дэгги. Только избранные, коим также когда-то являлся Майрон, помнили его как плюгавого мужичка с идеально симметричной щетиной. Майрон стукнул лишь раз, и из-за двери тут же послышался голос:
— Что тебе, Майрон? — спросил он, подойдя к двери почти вплотную.
— Не видал Дана?
— Дана? А! - вспомнил мужичёк. - Нет, не видал!
- Чёрт! - тихо отозвался Майрон, но его услышали.
— А что? — спросил любопытный Дэгги, который хотел всё про всех знать, но не хотел чтобы другие что-то о нём знали. Спросил он пустоту, так как Майрон уже поспешил к следующему дому.
У колодца в полутьмее Майрон разглядел девушку, несущую воду. Она была в косынке с распущенными короткими волосами.
— Тана, — обратился он к ней, - Не видала моего сына?
Девушка аж подскочила от неожиданности и случайно вылила на своё платье воду.
— Н-нет, — с лёгким раздражением ответила она. — Что вы так подкрадываетесь с утра пораньше?
Тану никогда не волновали проблемы окружающих. Дальше своего носа у неё не была зрения — такая вот острая близорукость. А больше всего она любила, вздёрнув носик, изрекать всякие колкости. Но Майрон молниеносно и молча покинул девушку, лишая возможности даже получить от неё высокомерный взгляд. Покинул также быстро, как и Фрэма с Дэгги до неё. Он слишком спешил.
С первыми лучами солнца коровы чёрно-пёстрой масти высыпали на луг. Трава вся по-летнему озеленилась после двухнедельного дождя. На ней алмазами сверкали капельки росы. За скотом, прихрамывая, шла сухопарая старушка. Ей давно перевалило за шестьдесят, но седина ещё не коснулась волос цвета свежей пшеницы. Она всегда смотрела на рассвет глазами юной молодой девицы, ожидающей чуда.
Золотой силуэт Майрона с выпирающим пивным животом из-под футболки подбежал к старушке. Та почувствовала горящий взгляд на себе, посмотрела на золотое от солнца, обеспокоенное лицо, и как будто прочитав его мысли, спросила:
— Кого-то потерял?
Мужчина оторопел. Откуда она может знать о пропаже Дана?
— А от-ткуда вы узнали? — слегка запнувшись, спросил он.
— Я и не знала, — теперь она смотрела ему прямо в душу, словно ведьма, ищущая ответы внутри, в глубинах подсознания, — Иногда всё понятно по одному лишь взгляду, без слов. Особенно с людьми, которых ты знаешь не первый десяток.
Майрон по инерции отвёл взгляд и посмотрел чуть выше переносицы, на морщинистый лоб старушки. Жилки на нём напоминали улыбочку.
— Когда вы в последний раз видели Дана? — протараторил он, не замечая, как глотает последние слоги слов.
— Несколько дней назад. Он помогал мне донести до дома вёдра, — Голос старушки, напротив, излучал спокойствие тихого лесного озеро с прозрачной, словно слеза, гладью, — С ним что-то случилось?
— Н-не могу его найти, — снова запнувшись ответил мужчина.
— Я понимаю вас, — сказала она, смотря словно сквозь его глаза, — это тяжело.
Старушка снова прочитала его мысли. Она разглядела в его красных от усталости и опьянения глазах вновь разбудившуюся скорбь о жене.
— Берегите сына, пожалуйста. Он — единственный, кто у вас есть. А вы — единственный, кто есть у него, — Теперь старушка смотрела совсем не в глаза Майрона. Она смотрели в прошлое.
Все в деревне знали трагичную историю старушки Йованны. Когда ей было тридцать с лишним, её дети — двое двенадцатилетних близняшек — ушли в лес и не вернулись. Жители поражались её силе воли и непоколебимостью. «Вот как надо!» — говорили они всем, потерявшим близких. Никто ниразу не видел её слёз. Но кто знал, о чём она думает смотря вот так, сквозь время; когда зависает и окунается в пучину прошлого. Никто не слышал о чём её кошмары, и что таится в стенах её неказистого домика под берёзами. На следующую же неделю после исчезновения её дочек, к ней приходили люди и просили о помощи. Она всегда славилась умением понимать без слов — помогать и понимать.
Только сейчас Майрон понял её беду. Пока сам не прочувствовуешь — не поймёшь. И хоть он потерял жену однажды в мае, чужую боль он не мог и не хотел понять. Слишком много своей. Это нормально, правда? Поэтому мужчина никуда не спеша, дождался пока солнце полностью покажется над горизонтом и заглянет в каждое окно маленьких домиков. Они стояли так, общаясь на каком-то энергитическом уровне. Молчание иногда гораздо понятнее слов.
— Иди. — Йованна улыбнулась и вокруг её губ появились смешные полукруги.
Мужчина кивнул и направился на поиски дальше. Старушка проводила его благословенным взглядом и сжала губы в тонкую линию. Вопреки мнению односельчан, Дан всегда нравился ей, и Майрон тоже.
Солнце ложилось оранжевым свечением по тропинке к склону. Из дымоходов пока не струился дым, но холод уже начал прокрадваться сквозь стены, прогоняя застоявшуюся теплоту. Сквозь незанавешенные окна видно одетых в плотные кафтаны работящих деревенских. Кто-то месил тесто на хлеб, кто-то готовил завтрак, кто-то собирался сходить за водой. Майрон уже не замечал холод, его тело как будто свыклось с неминуемой участью продрогнуть или даже простудиться. Но его по природе пышущее здоровьем тело не опасалось даже простуды. Он всегда болел не больше двух дней, а сейчас только утро субботы. До понедельника на работу точно вычухается.
Майрон бегал глазами по тонким травинкам, пытался разглядеть рыжую кудрявую голову меж нагих веток кустов калины, в пыльных студёных углах. Но его нигде не было. И даже этот очевидный факт вызывал разочарование — разочарование археолога, шедшего километры по знойной пустыне к залежам драгоценных камней, но в конце не обнаружевшего ни гальки.
Единственная надежда — дом недавно приезжих. К ним Майрон решил заглянуть в последнюю очередь именно по этой причине, хоть и их хижина с незамысловатым орнаментом вокруг окон был наиболее близка к его покосившейся избе. Анна была уже на пороге старости, а её дочь только недавно научилась писать буквы.
Дверь отворилась и детская тонкая нога переступила широкий порог, слегка оступилась и чуть не грохнулась на землю. Голубые глазки девочки приветливо посмотрели на Майрона.
— Девочка, ты не видела мальчика с рыжими волосами? Он мой сын и я его ищу.
— Видела, — она кивнула, закрывая за собой дверь.
— Где? — глаза мужчины расширились.
— Вон там! — маленькая рука указала на место между лесом и ветхим сараем около покосившегося дома.
— Куда он делся?
— Он болел. Мама боялась что я тоже заболею и отвела домой, — ответила она и чуть погодя прибавила: — Хотя он даже не кашлял на меня.
— И всё?
—Нет, — этим ответом она заинтриговала, точнее сказать, насторожила Майрона, — Мама сказала с ним не говорить.
Чем же болел Дан? Или же она имела ввиду раны, оставленные Майроном, когда тот был особо зол после плохого дня на работе? Его выгнали за то, что он пришёл под градусом.
— Мама дома? — спросил он, найдя лучшим решением спросить у Анны.
— Нет, она в Ворлафе.
И тут же, по детскому обыкновению, забыв о несуществующих для неё печалях и бедах, она весело побежала на луг. Её фигурка казалось тёмной тенью при жёлтом свете утреннего солнца.
Майрон практически бегом направился к дому. Он предположил, что Дан мог уйти в соседнюю деревню Ворлаф за врачом. А дальше уже куча ненадежных сценариев — ему отказали, он вообще не смог дойти или ещё что похуже. Он лихорадочно метался по сумрачным комнатам дома, паковал мешки и сухпайки на дорогу. На случай если Дан вернётся, оставил записку об уходе — размашистым кривым почерком.