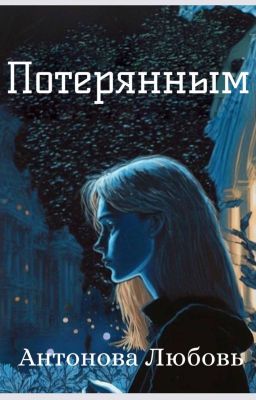Интерлюдия. Во тьме
Обида. Жгучая, горячая, вперемешку с болью, как раскаленное железо по венам. Ослепительной вспышкой тянулась бесконечно долго, и не было ничего, кроме боли этой. Такой, от которой не вскрикнуть, ни вздохнуть невозможно. Треск, разрывающий ткань бытия.
А дальше пустота и тьма, где стремительность времени вдруг растянулась и потекла пластилиновым воском. Липкой грязью, что комьями забивалась в глаза и рот, в уши и ноздри вместе с едким запахом. Хвоя и ладан, мед и горечь.
Он бултыхался в этом безвременье вечность, устал сопротивляться, а злость жгла, жгла, оставляя клеймо свое на несчастном осколке сознания, пригвождая и запирая. Ожидание — вот тюрьма и пытка.
Метаться в серости стен, царапать кирпичную кладку и засыпать на холодном полу с битой плиткой.
И люди, ты для них, что пустой звук, навязчивое жужжание над ухом, звон в ушах. Отмахнуться. А ты лежи с болью, корчись от злобы и обиды.
Всё, что не делается, оно к чему? Кто сказал это дерьмо? За что с ним так несправедливо? А время издевается, течет медленно, хотя это иллюзия. Время стоит, мы сами его выдумали, его не существует. А декорации вокруг пляшут блеклым вихрем. Реальность пролетает мимо, как будто он ребёнок на карусели, смазывается неясным пятном, кружится вокруг — неправильная карусель. И он неправильный, стоящий с другой стороны от реальности. Которая размазывается тонким слоем, как теплое масло, какую форму она имела изначально, какой цвет, как пахла? Уже непонятно.
Ему некуда было пойти, он скитался по этажам, отмеряя новые границы своего бытия или небытия. Проклинал ту часть себя, которая в отчаянной попытке цеплялась за край скользкого холодного металла. Эта часть и удержалась, он знал, что был теперь не целый, блеклый осколок, черепок от разбитой чашки, завалившийся в тёмный угол так, что не вымести. Некоторое время ещё чувствовал ту оставшуюся часть себя, которую ссыпали в черный пакет. А потом словно кто-то щелкнул ножницами, и он забыл. Но что забыл? Это было важно? Зачем он здесь?
Помнил только, что ждал. Ждал Её. Она обещала прийти, это было так важно, но почему помнилось с трудом. Решил, что дождется. Нужно остаться здесь ещё немного. Она придет. Показать ей закат — вот что важно. Показать и признаться, и будь что будет!
Он почти не помнил её лица и голоса. Из маленьких фрагментов составил её образ, но он получился недостоверным, смазанным.
Небытие выплюнуло его, и парень нетвердой походкой спустился с лестницы. Запнулся раскрывающимся кроссовком и покатился кубарем. Темнота и дымный смрад рассеялись, и он обнаружил себя лежащим в углу около едва теплой батареи. Вставать не хотелось, в конечностях даже не вата, а дешевый синтепон, которым набивали игрушки в его детстве. Яркая плюшевая шерстка таких зверушек линяла, тускнела и быстро сваливалась в неприглядную наэлектризованную шкуру. Внутренности у них были набиты белым скрипучим пухом, неприятно колющим руки.
Мимо проходили люди, а он видел только их ноги. Стариковские в расхлябанных тапочках, испещренные венами, крепкие, в строгих начищенных туфлях, кроссовках и сапогах — никто не обращал на него внимания. Только потертые сандалики, ещё большеватые, с чужой ноги, останавливались напротив его носа и долго-долго стояли, словно вросли в пол.
«Кыш», — беззвучно шевелили его губы, и сандалики всё понимали, делали пару шагов назад и снова смотрели.
Обида, свернувшись где-то в области груди, уже не жгла каленым железом, но он чувствовал её смрадное дыхание. Не думать о ней не получалось, всюду как тень таскал её за собой. Не хотел цепляться, это она цеплялась за край скользкого металла и сознания. Благодаря ей он и лежал брошенный всеми на лестнице около батареи.
Обида — особенный паразит, поселившись, сворачивает кровь и пьет своего хозяина, словно ягодный сок и всегда издевательски оставляет чуть недопитым, обессиленным, чтобы дать отдышаться минутку другую, а потом по новой опустошать.
Если вокруг никого нет, остается винить только себя, и вина эта едкая, вязкая, склеит челюсти, как ириска, и сколько бы не ждал, не растает. Внутри сознания всегда надзиратель, все поступки, слова и жесты оценивает. Критикует. Обвиняет. Наказывает. От надзирателя этого не спрятаться, всюду он рядом. Глаза закроешь, и он здесь, во тьме под веками: «Хорошо себя вел? Тут грешок за тобой есть, помнишь как...»
И понеслась эта круговерть, и сколько бы не пытался, нет у него оправдательного приговора.
«Светик, солнышко! Ну что же ты горько так плачешь? Они дразнятся, не слушай их!»
Кто это сказал? Голос знакомый. Бабушка?
И прикосновения рук...
Нет, показалось, это сквозняком повеяло, бабушки давно нет в живых, просто снится время от времени... За темнотой сомкнутых век солнечный день и чье-то присутствие. Он открывает глаза.
Над ним к самому носу склонилась маленькая девочка с большими глазами, в которых целый океан тёмной печали. Это её прикосновение он ощутил.
«Сама жалкая, а тебя жалеет, видишь?» — молвит внутри гаденький голос надзирателя.
«Заткнись, урод... Просто заткнись!» — если б можно было вытрясти из себя этого урода, он бы вытряс. Устал его слушать, но от этого присутствия никуда не спрячется. Этот монстр продолжает жрать его, даже сейчас, когда жрать-то нечего. — Т-тварь... — шипит он пересохшими губами, и девочка, дернувшись, отскакивает.
—«Ну что, ублюдок? Напугал ребёнка, да? Ты не заслуживаешь жалости!»
Стереть бы его, добраться бы до тощей скользкой шеи и придушить! Он болезненно сглатывает — это скорее механическое движение, во рту сухо.
— Прости, меня... — давит он подобие улыбки, и девочка у лестницы подходит чуть ближе.
Где он?
Солнечный свет проникает через грязное окно и оставляет сияющий квадратный отпечаток на противоположной стене. Там, покрытый на несколько слоев штукатурки, шрам надписи: «Иду на свет сквозь темноту, но попадаю в пустоту!»
Ответ, сотканный из дневного света. Память болото, он то и дело увязал в ней, тонул в трясине воспоминаний. Небытие выплюнуло, но для чего? Дни бесконечным серым потоком потянулись мимо окон.
На лестнице их двое: Свет и маленькая девочка в цветастом платье. Она показывает свои сокровища единственному другу, а Свету скучно. Тоскливо он разглядывает бусину и старую пуговицу с шинели, смятый фантик на веревке — бесполезный мусор, ребёнок и сам почти не помнит, что это за сокровища.
***
Свет стоял, вцепившись в подоконник, и ждал, когда Гостья снова нырнет в арку и пересечет двор наискосок, пиликнет домофон и скрипнут дверные петли, как, перешагивая через одну ступеньку, она поднимется.
Гостья заговорит с ним! Совершенно обычный диалог, словно они и правда соседи по лестничной клетке. Свету хочется задержать её, побыть подольше.
«Хочешь посмотреть закат?» — ей не нужен этот закат, ей нужен кто-то другой — она отказывает. К кому-то другому отчаянно спешит, ждет и мучается. Одержимая! И Свет не понимает, почему это тяжелым обручем сдавливает грудь.
Какая-то мутная отрава горечью крутилась на языке, что за чувство противно жгло его останки? Зависть.
Она говорит, а его трясет от злости. Это же нужно было родиться такой наивной! «Неужели и я таким был», — думает он, и внутри всё закипает. Всё у неё есть! А она отказывается принимать дары Этой стороны! Отказывается от самой жизни! Как не справедливо! Глупая! Но сколько времени у него не было собеседника, как он изголодался по простым разговорам. Гостья слушает, склонив голову на бок, не верит, хмурится. Она не видит разницы! Не понимает! Глупая!
Ему жаль её и одновременно хочется толкнуть, сделать больно, нагрубить — убедиться, что она чувствует. Чувствует его тычки-слова и пытается отбиваться — восхитительное ощущение, что ты всё ещё что-то значишь, существуешь, чуть больше чем бесплотная тень! Внутри разливается тепло радости.
Когда бесформенное чудовище из мрака Той стороны глядит из арки, ему отчаянно хочется её остановить. И он кричит в открытое окно, просит, уговаривает. Чувствует, что мрак тянет её, как мошку в паутину, а Свет не может ему уступить. Не сейчас, не с ней. Потому что в их болтовне все краски безвозвратно утерянной жизни.