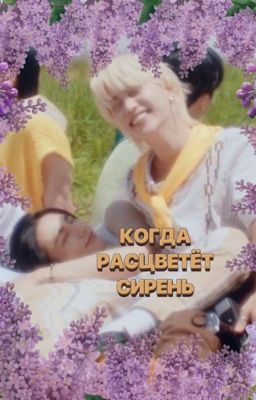сирень и белые стены
День выдался тёплый. Весенний воздух щекотал кожу, а где-то вдалеке уже слышалось пение птиц. Сирень под окном квартиры раскрывалась — её аромат был ещё тонким, почти неуловимым, но уже обещал что-то тёплое и настоящее. Как и они.
—ты уверен, что я должен идти?—спросил Феликс, застёгивая куртку, пока Хенджин искал ключи.
—ты спрашиваешь об этом в третий раз—пробурчал Хенджин, не поворачиваясь—пугаешь меня, Лис. Это звучит почти как нервозность. У тебя что, эмоции?
—удивительно, что ты до сих пор не осознал у людей они есть—парировал Феликс—просто...я не хочу лезть туда, где не просят.
Хенджин повернулся. В его взгляде было что-то мягкое — почти неуловимое, как тот аромат сирени.
—я бы не предложил, если бы не хотел, чтобы ты пошёл. Понимаешь, Феликс...— он на секунду замолчал—моя мама не самый простой человек. У неё язык острее моего, так что...постарайся не влюбиться в неё, ладно?
—прекрасно—усмехнулся Феликс—выходит, это семейное.
Они вышли на улицу, шагали в тишине. Не давящей — наоборот. Уютной. Феликс заметил, что плечо Хенджина слегка наклонено в его сторону, будто тот готов был поймать его, если бы он оступился.
—а ты часто навещаешь её?—спросил Феликс через пару кварталов.
—когда могу—отозвался Хенджин—раньше чаще. Сейчас...жизнь закрутила. Но она сильная. Даже когда лежит под капельницей, может выдать такую тираду, что ты захочешь спрятаться в шкаф.
Феликс хмыкнул:
—а теперь ясно, откуда у тебя эта сверхспособность.
—о, это не сверхспособность. Это генетика.
***
Больничные стены были выкрашены в унылый белый. Но у палаты, где лежала мама Хенджина, стоял старый керамический вазой с засохшей, но явно ухоженной лавандой. Кто-то поставил её сюда не ради красоты, а как напоминание: даже в холодном месте может быть жизнь.
—она любит, когда кто-то приходит не с пустыми руками—пробормотал Хенджин, прежде чем открыть дверь.
—я взял яблоко. Подойдёт?
—если только ты не планируешь ей ими бросить. Но в остальном вполне.
Мама Хенджина была маленькой женщиной с проницательным взглядом и невероятно прямой спиной. Даже лёжа на подушках, она смотрела на них, как будто всё ещё стояла на сцене и читала монолог.
—а это кто? спросила она, едва Хенджин вошёл.
—это...Феликс. Мой...сосед. Учитель. Он...— Хенджин замялся.
Феликс улыбнулся:
—тот, кто заставляет вашего сына хотя бы изредка быть терпимым к человечеству.
—о, боже—сказала женщина и хмыкнула—ты ещё и с чувством юмора. Неужели ты единственный, кто может с ним справиться?
—с каждым днём всё сложнее, но я держусь—с улыбкой ответил Феликс.
Хенджин прикатил к ней кресло, устроился рядом. Мама коснулась его руки.
—ты выглядишь уставшим, но...мягче. Этот парень влияет на тебя?
—мама, хватит устраивать допросы—хмыкнул Хенджин.
—я просто рад, что кто-то может держать тебя в узде. Ты всегда был колючим, как кактус, но с пустым сердцем он не цветёт.
Феликс замер на секунду.
Хенджин покосился на него:
—не слушай её. У неё поэтический период начался после наркоза.
—а мне нравится—тихо сказал Феликс—думаю, я и сам немножко кактус. Просто с другими иголками.
—вот видишь—сказала мама—найдёте общий горшок.
Хенджин схватился за лицо:
—я больше никогда не приведу никого знакомиться с тобой. Никогда.
—врёшь—сказала она—потому что он тебе важен. Это видно даже мне, а я полуслепая и лежу под капельницей.
***
Когда они вышли из палаты, вечер уже опускался на улицы. Феликс шёл молча.
—прости за маму. Она...иногда говорит больше, чем нужно.
—она чудесная—мягко сказал Феликс—просто в ней есть всё то, что в тебе. Только...честнее.
Хенджин хмыкнул:
—не начинай.
—не волнуйся, я не буду. Я просто...рад, что ты впустил меня туда. Это...важно.
Они остановились на перекрёстке. Светофор мигал, машины проезжали мимо, весенний воздух был наполнен тишиной и дымкой.
—спасибо, что пошёл—выдохнул Хенджин.
—спасибо, что позволил.
И пока вечер опускался на город, под окнами их квартиры медленно, но настойчиво распускалась сирень. Как и они — растущие, терпеливо и по-настоящему.
***
Ночь в квартире была особенно тиха — как будто сам город замер, уступая место чему-то более важному. Лунный свет пробивался сквозь тонкую занавеску, мягко освещая комнату Хенджина. На кровати, среди спутанных простыней, Феликс лежал рядом с ним, всё ещё ощущая на губах тепло последнего поцелуя.
—ты всегда такой тёплый?—прошептал он, прикасаясь лбом к Хенджину.
—только если рядом кто-то вроде тебя—едва слышно усмехнулся тот, его голос был хриплым, почти неузнаваемым от эмоций.
Руки находили друг друга инстинктивно неуверенно в начале, как будто всё происходящее было почти запретным, и в то же время давно ожидаемым. Их дыхание стало медленнее, глубже. Каждый жест, каждое прикосновение было мягким исследованием: плечо, ключица, линия позвоночника. Феликс дрожал не от холода, а от переизбытка ощущений — впервые позволив себе быть таким уязвимым перед другим человеком.
Слов почти не было — только взгляд, в котором смешивалось удивление, желание и тёплая, пугающая привязанность. Хенджин, обычно резкий, язвительный и замкнутый, вдруг оказался невероятно нежным, как будто боялся сделать что-то не так. Он касался Феликса с осторожностью, с уважением к его доверию — как к хрупкой истине, которой им теперь нужно было поделиться.
И в этом медленном, тихом сближении не было места спешке. Всё происходило будто вне времени: мир сузился до звуков сердца, тепла кожи и нежного шепота на грани сна.
Позже, когда их тела наконец успокоились, Феликс уткнулся в плечо Хенджина и сказал, едва слышно:
—никогда бы не подумал, что ты можешь быть таким.
—не думай—ответил Хенджин, обнимая его крепче—просто...оставайся.
И в этом коротком "оставайся" было всё — просьба, признание, начало чего-то нового.
***
Утро в школе началось, как всегда, с лёгкой суматохи. Детские голоса заполнили коридоры — звонкие, беспорядочные, будто весь мир был ещё наивным, цветным и подвижным. Феликс вошёл в класс, неся в руках стопку тетрадей и коробку с цветными мелками. Улыбка появилась на его лице сразу, как только он увидел, как дети уже рисуют на доске что-то, похожее на кошку...или солнце...или, может быть, очень странную версию учителя Доюна.
—кто это у нас такой красивый на доске?—с лёгким смешком спросил он, ставя вещи на стол.
—это мистер Доюн!—с гордостью ответила девочка с косичками—он смешной!
—ну, в этом мы не сомневаемся—Феликс покосился на вошедшего в класс Доюна, который только развёл руками.
—слышал!—сказал тот, весело глядя на рисунок—а у тебя, Феликс, значит, больше нет авторитета в глазах юных художников.
Феликс усмехнулся, сел на край стола и начал раздавать задания. Дети его обожали — не потому, что он был самым строгим или весёлым, а потому что в нём всегда чувствовалась мягкость, терпение и искренний интерес. Он не говорил с ними сверху вниз, он говорил рядом.
Пока дети рисовали, писали и вели свои маленькие споры о том, кто лучше рисует лису, Доюн наклонился к Феликсу:
—ты сегодня какой-то...тише обычного. Всё хорошо?
—да—коротко ответил Феликс, не глядя на него—просто...устал.
Но Доюн знал его чуть лучше, чем обычный коллега. Он смотрел чуть дольше, молчал немного внимательнее.
—ладно, если захочешь поговорить я как бы здесь—сказал он негромко, с дружеской полуулыбкой.
Феликс кивнул, но в его глазах что-то дрогнуло. Позже, на перемене, они с Доюном пили кофе в учительской. Солнце падало на окно, через которое был виден школьный двор. Дети играли, кричали, гонялись друг за другом.
—удивительно, как много они отдают энергии. А ты стоишь перед ними и всё это держишь—сказал Доюн, наблюдая за Феликсом—я бы выгорел на третий день.
—это как любовь. Ты устаёшь, но не хочешь уходить—Феликс слегка улыбнулся—иногда они единственный повод не сойти с ума.
Доюн посмотрел на него чуть дольше, чем нужно. Хотел было сказать что-то, но остановился.
—ты правда сегодня немного не здесь—наконец произнёс он—это из-за...того соседа?
Феликс вздохнул. Он не хотел врать, но и говорить многое — тоже.
—мы...просто усложняем друг другу жизнь. Иногда это забавно. Иногда больно. Но спустя столько времени я смог добиться того чего хотел
—и чего же?—хмыкнул Доюн.
—Хен наконец-то стал открываться, и сказал о своих чувствах, лед растаял.
—вы теперь встречаетесь?
Феликс кивал головой, выпивая свой кофе.
—я рад за вас—улыбнувшись произнес Дюню.
После занятий, на продлёнке, он сидел с тетрадками, проверяя сочинения о "самом тёплом воспоминании". Один ребёнок написал: "Когда мама впервые сказала, что я хороший". Другой — "Когда учитель Феликс сказал, что я рисую лучше всех".
И это, как ни странно, стало якорем. Напоминанием, почему он остаётся в этой работе, в этом городе, даже в этой странной квартире с её язвительным, упрямым соседом.
К вечеру, когда дети расходились по домам, Феликс и Доюн стояли у ворот.
—завтра увидимся?—спросил Доюн.
—как всегда—ответил Феликс. Он был благодарен за этот день. Но в глубине души он знал — мысли всё равно будут возвращаться в ту квартиру, к человеку, с которым теперь ничего не было простым, но всё — слишком значимым.