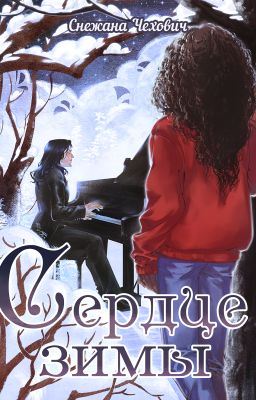Глава 7. Кода. 10
10. Незаметно наступил февраль. Наша параноидальная полу-истерия вокруг то ли беременной, то ли подсевшей на наркотики Одри приутихла. Она стала вести себя почти как прежде, но будто бы приглушила свои краски. Я даже не могу толком вспомнить, о чём мы с ней разговаривали, настолько нейтральными, ничего не выражающими были её ответы. Я не обращала на это внимания. Общается, ходит на танцы, продолжает заниматься в театральном кружке — значит, всё в порядке. Думала, ей просто нужно время.
Восемнадцатого февраля (это была суббота, ближе к вечеру мы планировали пойти в кино) мне позвонили. Было около девяти утра. Дрожащим голосом мистер Карпентер сообщил, что Одри нашли в Ясеневом парке мёртвой.
Я сказала что-то вроде: «Понятно», сбросила звонок и пошла умываться. Потом я решила сделать себе завтрак: достала сковороду, натёрла сыр, разбила два яйца, добавила молока и взболтала получившуюся смесь венчиком. Так и не вылив смесь в сковороду, я выключила плиту, села на пол и впилась пальцами в волосы. Я даже не сразу поняла, что мне больно — так сильно я их тянула.
— Милая? — раздался со стороны двери взволнованный голос матери. — Милая, что с тобой?
Она подбежала ко мне и попыталась оторвать мои руки от волос, но я отпихнула её.
— Одри умерла, — сказала я.
— Одри? — переспросила она — так по-глупому, будто решила, что я имела в виду какую-то другую, незнакомую ей Одри.
— Да, мама. Одри. Наша Одри. Её больше нет.
— О, Господи. — Мама снова подошла ко мне и, опустившись рядом, обняла. — Господи. Какой ужас. Что случилось?
Я не ответила. Не знала, что случилось, и мне было всё равно. Я ничего не чувствовала: ни объятий мамы, ни холода пола, ни тоски или горя — только саднящее ощущение у корней волос.
Она сама пожарила мне омлет, усадила меня за стол, вложила вилку в руку. Я ела механически, практически не чувствуя вкуса. Расправившись с омлетом, я осталась сидеть на кухне над немытой тарелкой — просто не могла заставить себя сдвинуться с места. Из меня будто выдернули ниточку, которая приводила в движение все мои суставы.
Зазвонил телефон. Он всё орал и орал, но я не брала трубку — не могла пошевелиться. Звонивший всё не успокаивался до тех пор, пока мама не прибежала на звуки и не приняла звонок от Ронни. Она сама с ним поговорила, выйдя в коридор, а я всё не двигалась — смотрела в центр стола и ни о чём не думала.
Ронни пришёл через час.
— Вставай, — сказал он. — Поедем туда.
Я подняла на него глаза.
— Зачем?
Он сел возле меня на корточки и взял меня за руку. Глаза у него были воспалёнными.
— Думаю, мы должны. Ты уже читала её предсмертную записку?
— Предсмертную?
— Да, Амара. Она покончила с собой. Посмотри в телефоне, мистер Карпентер прислал фото записки нам всем.
— Вам точно нужно куда-то ехать? — недовольно спросила мама. Она вошла в кухню и встала надо мной со скрещенными на груди руками.
— Так будет лучше, — ответил Ронни. — Дома ей будет плохо.
— Покончила с собой, — повторила я, пробуя это словосочетание на вкус. Оно осталось на языке едкой горечью.
Ронни ещё немного поговорил с мамой — я слышала их слова, но не понимала смысла. Будто оба они вдруг заговорили на китайском языке. Мама отвела меня в коридор, Ронни снял с крючка мою куртку и протянул её. Я оделась и, не застёгиваясь, вышла на улицу — в февральский ветряный, пасмурный вечер.
Дайана ждала нас в машине. Когда я забралась на переднее сиденье и пристегнулась, она сказала:
— Извини, что не зашла. — Украдкой она вытерла слёзы. — Нужно было, но...
— Поехали, — сказала я.
Во вложениях непрочитанного сообщения действительно была фотография листка бумаги, испещрённого аккуратным, красивым почерком Одри.
Она писала о матери. О том, как ей жаль, что она стала главным разочарованием в родительской жизни. Писала о нас — о том, какой счастливой мы её сделали. Просила похоронить её в сиреневом платье, в котором она была на свадьбе Винус, и в аметистовых бусах, которые я ей подарила. И в конце были строки:
«Я очень люблю вас, мои друзья — лучшие друзья: Амара, Дайана и Ронни. Пожалуйста, не расстраивайтесь слишком сильно. Мне невыносима мысль о том, что я могу сделать вам больно. Лишь надеюсь на то, что не занимала в ваших жизнях слишком много места, и что это место теперь заполнится чем-нибудь хорошим.
А маме я хочу сказать... Видишь: я вовсе не слабая».
Ни слова о Дугласе — будто он и не испортил ей жизнь, не сломал её, не довёл до отчаяния. Мне захотелось, чтобы он умер. И чтобы умерла её мать, которая внушила Одри ненависть к себе. И чтобы умерла я сама, потому что мне было невыносимо. Не плохо, не больно — просто невыносимо.
— Как всё случилось? — глухо спросила я.
Дайана искоса на меня посмотрела.
— Мистер Карпентер тебе не рассказал?
— Нет.
— Она наглоталась снотворного, — сказал Ронни, — и села на скамью у ворот Ясеневого парка. Её нашла пара, которая выгуливала собаку в шесть утра. При себе у неё был паспорт, упаковки от таблеток и записка.
Припарковавшись прямо у ворот, ничуть не заботясь о том, что перекрыли въезд, мы выпрыгнули в истоптанный ногами полицейских и врачей скорой помощи снег. Одна из скамей была огорожена сигнальной лентой, но поблизости никого не было. Это ведь не убийство, расследовать нечего.
Дайана плакала бесшумно, вздёрнув подбородок и будто бы сражаясь с надвигающимися рыданиями. Ронни стоял за нашими спинами и обнимал нас за плечи. Я же просто смотрела на скамью, на которой замерзала, погружаясь в смертельный сон, Одри, и чувствовала себя преданной.
— Маленькая гадкая сучка, — сказала вдруг Дайана. — Идиотка. Да пошла она. Да пошла она!
Вырвавшись из объятий Ронни, она круто развернулась и, утирая слёзы, злой резкой походкой направилась прочь — скорее всего, не разбирая дороги.
— Иди за ней, — сказала я. И, видя его смятение, добавила: — Обо мне есть, кому позаботиться. Иди.
Я уже видела Астрея — он стоял среди деревьев, сложив руки за спиной и глядя куда-то в сторону. Я пошла к нему, обогнув трепещущую на ветру сигнальную ленту. Снег скрипел под ногами. Пальцами я касалась попадающихся по пути ветвей кустарников — сучковатых и острых. Пыталась ухватиться за что-то знакомое, материальное. Не дать себе исчезнуть.
— Она умерла, — сказала я, остановившись напротив Астрея. — Одри умерла. Убила себя. Что мне делать? Что. Мне. Делать. Я хочу плакать. Кричать. Что-нибудь бить. Но не могу. Не могу... Во мне как будто нет слёз. Так ведь не бывает, да? Но я не могу.
Он не ответил. Вокруг по-прежнему простирались сугробы, но изменились деревья — взметнули к небу свои кривые чёрные ветви, и погасли фонари, и небо стало чёрным, а на нём зажглись крупные звёзды.
— Нет, — сказала я. — Не хочу быть здесь. Не сейчас... не сейчас.
Астрей обошёл меня и сел за рояль. Я смотрела на него — на его высеребренный профиль, на бледные пальцы. Двигаться я тоже не могла. Во мне словно не текла кровь, не разгоняла по конечностям тепло. Меня вдруг пронзило отвращением к самой себе. Выходит, мне всё равно. Мне не жаль Одри, я по ней не скучаю, не скорблю. Я не могу заплакать, не могу кого-нибудь ударить, не могу даже пошевелиться. Я просто бездушная тварь, которой плевать на всех.
К рукам и ногам словно привязали гири. В груди нарастало давление, и меня окатило волной страха: вдруг это сердечный приступ? Вдруг я умру прямо сейчас? Или, может, зима решила покарать меня за моё равнодушие?
Музыка ускорилась, стала прерывистой, агрессивной. И тогда я упала на колени закричала.
Я орала так, как не орала даже умирая. Изо всех сил, напрягая мышцы, надрывая связки, выталкивая из себя ярость и непонимание. Пламя вдруг охватило деревья, заплясало на ветвях, поползло вниз, стекая по стволам к корням и растапливая снег. Астрей, не замечая набирающего силу пожара продолжал играть, а я упала в снег и зарыдала. Я захлёбывалась слезами, давилась ими, задыхалась от них. Всё вокруг охватил огонь: горел лес, горела ротонда, горел рояль. Сквозь исчезающие в пламени деревья я видела мраморные статуи розария.
Горела даже земля. Спасаясь от жара, я поползла в одну сторону, потом в другую и, наконец, сообразила взбежать по ступеням ротонды, прячась среди её белокаменных, но уже почерневших от копоти колонн.
А потом пожар унялся. Огонь опал, будто потеряв силу. Ничего не осталось.
— Это конец? — спросила я, осматривая пепелище. До самого горизонта — линии, в которой серая от пепла земля соединялась со звёздным небом, — теперь простиралась обугленная пустошь.
— В некотором роде. — ответил Астрей.
— Мне плохо, — ответила я. — Мне так плохо... так плохо.
Едва держась на ватных ногах, я подошла к роялю и взяла исписанные нотные листы. Чернила влажно поблескивали, будто только нанесённые.
— Ты написал для меня новую музыку? — спросила я.
— Нет, — ответил он. — Лишь перенес на бумагу твою скорбь.
Мой взгляд скользил по белоснежным страницам. Я вспомнила, как Одри в красивом фиолетовом платье кружится в танце на свадьбе Винус. Она перетанцевала, кажется, со всеми, начиная от Ронни и заканчивая моим отцом. Она была по спокойному счастлива, и теперь-то я понимала, почему. Должно быть, уже тогда всё решила. Уже тогда наслаждалась последними неделями жизни. Едва ли она пошла бы на такой отчаянный шаг спонтанно.
Но мне-то откуда знать? Оказывается, я совсем её не понимала. Моего внимания хватило на то, чтобы заметить опасность, но ума не хватило для того, чтобы предугадать возможные последствия. Я оказалась бесконечно тупа. Я могла допустить мысль о том, что Дайана способна покончить с собой из-за пережитого стресса, но не Одри. Одри слишком любила жизнь, она была полна идей и стремлений — так, по крайней мере, я думала. В какой момент всё изменилось? Когда Дуглас выставил её на посмешище перед всеми? Или когда выяснилось, что он хотел вернуть Дайану, а после того, как не получилось, попытался вернуть её саму? Или намного раньше? Бывали ли у неё подобные мысли прежде — ещё до того, как мы познакомились?
Я ни хрена о ней не знала. И — уже не узнаю.
На нотные листы закапали слёзы — меня снова начинал душить плач. Но теперь я знала, как назову эту музыку.
«Прощай, леди».