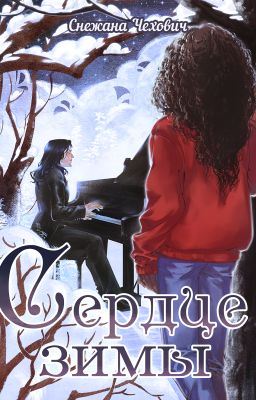Глава 3. Предтеча распада. 4
4. Ронни принёс с собой холодного пива. Взяв банку, я щёлкнула ключом и мгновенно к ней припала.
— Где ты взял целую упаковку? — спросила я, напившись. Только сейчас поняла, что мучилась от страшной жажды. — Кого-то ограбил?
— Меньше знаешь — крепче спишь, — флегматично ответил он.
На чердаке мы долго ковырялись в вещах, стаскивая с них посеревшие от времени, пахнущие пыльной горечью простыни и потягивая пыльно-горькое пиво. Ронни привела в дикий восторг швейная машинка, и мы минут пятнадцать развлекались с ней, пока я по глупости не пробила себе палец иглой. Пришлось бежать в ванную за пластырем.
Швея бы из меня вышла никудышная.
Ещё мы нашли пишущую машинку — правда, в ужасном состоянии. Проржавевшая, заедающая, она, тем не менее, вызвала у Ронни новую волну восхищения.
— В детстве я хотел стать сценаристом, — признался он, пока я обматывала палец пластырем.
— А писателем?
Он покачал головой.
— Фигня. А вот сценарное искусство, работа в кинопроизводстве... это чистый кайф.
Не знаю, обладал ли Ронни должным талантом, но в кино он точно был бы на своём месте. Пусть даже не в роли сценариста, а, например, звукорежиссёра, или композитора, или, чем чёрт не шутит, актёра либо каскадёра. Ронни — настоящий фанатик, готовый лбом стены прошибать, и я ему даже немного позавидовала — как завидовала Винус или Одри. У них у всех была страсть, пылкая любовь к своему делу. Может, поэтому зимним демонам от меня никакого толку? Нечем питаться, присосавшись ко мне? Вот был бы сюрприз для потусторонних сущностей, питающихся чувствами и талантами.
Убедившись, что пишущая машинка безнадёжно сломана, Ронни притащил откуда-то картонную коробку, набитую всяким хламом. С благоговением он просмотрел стопку перевязанных лентой фотокарточек: отец с друзьями, отец с Винус, отец с бабушкой. С дедом у отца было мало фотографий — они вроде как не ладили. Дед всю жизнь проработал на эш-гроувской лесопилке и не понимал тонкой душевной организации отца, который носился со своей кинокамерой. Не мужское дело, всё такое.
Отложив фотографии, Ронни взялся перебирать пластинки и кассеты, а я попыталась разобрать шкатулку с балериной, чтобы достать из неё батарейки. Если не будет батареек, никакая мистическая сила не заставит эту штуку работать.
— Плёнка в некоторых кассетах уже рассыпается, — заметил Ронни.
— Само собой, — ответила я. — Они же тут годами стояли, никому не нужные.
— А что насчёт твоих бабушки с дедушкой? — спросил он, убирая кассету обратно в пластиковую коробку. — Родителей отца. Тут ведь и их вещи?
— Они давно умерли и оставили дом Винус, потому что отец возвращаться в Эш-Гроув не собирался. — Я откинулась назад и, придирчиво разглядывая перемотанный пластырем палец, закинула щиколотку на согнутую в колене ногу. — Винус рассказывала, что папа в детстве жутко боялся темноты, и что однажды она заперла его прямо тут.
— Серьёзно? А по его фильмам и не скажешь, что он темноты боялся. — Ронни тоже опустился на матрас, и мы лежали рядом в сонной чердачной тишине. Я смотрела в потолок, на балки, а Ронни читал список песен на вкладыше в очередной коробке из-под аудиокассеты. — Всё так мрачно и зловеще. Особенно в «Наступает эпоха распада». И в приквеле, «Предтеча распада», тоже.
Я пожала плечами и сказала:
— Не люблю его фильмы.
— У тебя просто нет вкуса.
Это так приятно — высказываться о фильмах отца и получать в ответ спокойную реакцию вместо скандала. Отец расстраивался, стоило мне случайно ляпнуть какую-нибудь глупость о его фильмах, а мама оттаскивала меня за руку и, понизив голос, шипела на ухо: не смей, мол, его огорчать. Теперь-то я понимаю, что в этом её полу-истеричном поведении были свои причины. Подозреваю, отец всегда был склонен к депрессиям и прочим таким штукам, и, возможно, мама трепетно охраняла его хрупкий покой не только ради него, но и ради себя, и даже ради меня.
— Не уверен, что нам стоит это трогать, — сказал Ронни, берясь за толстую потёртую тетрадь. Я показала ему целую стопку таких. Там были рисунки отца (он рисовал шариковыми ручками синего, красного и чёрного цвета), заметки и какие-то невнятные, словно вырванные из контекста приписки.
— Ему сейчас всё равно, — ответила я, — так что читай, сколько влезет. Он не узнает, а если и узнает — просто веди себя, как обычно и рассыпайся в похвальбе. Он растает за секунду.
— Вот тут есть запись... Наверное, это его первые мысли об «Улыбке тысячелетнего человека». Даже ноты есть, видишь, — он показал мне нарисованный от руки нотный стан. — С них начинается заглавная композиция.
— Понятно, — без особого интереса откликнулась я.
— Музыку он, конечно, сам не пишет, но мог вспомнить придуманный в детстве короткий мотив и использовать его.
— Ага.
— Кстати, ты знала, что с Энди Ли, который писал для «Улыбки...» всю остальную музыку, он познакомился совершенно случайно в очереди в «Старбакс»?
— Не-а.
Отец очень много говорил о своей работе — даже слишком. В детстве мне безумно нравилось погружаться во всё это, но в какой-то момент интерес исчез, а отец даже не заметил. Не заметил, что мне стало скучно слушать его истории, скучно обсуждать с ним просмотренные книги или фильмы, скучно делать вообще что-либо. Наверное, мне было бы обидно, если бы не было так всё равно. В конце концов, в нашей семье правом на драму обладал только он.
— Тебе тут не попадался проигрыватель? — спросил Ронни, и я встрепенулась. Под звук его голоса и под расслабляющий шелест страниц меня сморила дрёма.
— Давай поищем, — ответила я, откладывая выпотрошенную музыкальную шкатулку и пряча батарейки в карман. — Кассетный точно где-то есть, но, если ты говоришь, что плёнка сыпется, лучше поискать этот, как его. Для пластинок.
Мы устроили натуральный кавардак, пока раздвигали мебель и заглядывали во все закоулки в поисках проигрывателя для пластинок. Я не могла поверить, что в этом королевстве рухляди нет такой банальной вещи. В итоге Ронни нашёл обычный кассетный аудио-магнитофон. Воткнув вилку в розетку, он вставил кассету и включил. Сперва раздался жутковатый потусторонний звук, похожий за жевание плёнки, но потом заиграла музыка — Дэвид Боуи и его «Wild is the wind».
— Ты умеешь танцевать? — спросила я. Пиво ударило мне в голову, и внутри плескалась причудливая алхимическая смесь лености и энергичности.
— Нет. Терпеть это не могу. Дрыгать конечностями, не попадая в такт — полный отстой.
— Так нужно дрыгать, попадая в такт! — Воодушевившись, я подскочила и принялась пританцовывать под Боуи. — Давай, поднимай свою задницу.
— Ой, да иди ты, — ответил он. — Я это не люблю.
— А я не люблю твою нудную музыку, но что-то моего нытья ты обычно не слышишь.
Исторгнув тягостный, преисполненный страданий всего мира стон, Ронни поднялся на ноги. Он и вправду двигался из рук вон плохо — как пластиковый Кен, у которого не гнутся ни руки, ни ноги. Учить его танцевать по-настоящему я, конечно, не собиралась — на развитие пластичности уходят годы. Мне просто хотелось подурачиться, заставить Ронни немного отпустить свои скованные плечи, руки-сосиски и чугунные колени.
Танцевать под Дэвида Боуи даже мне было сложно. Поэтому, безжалостно вырубив магнитофон, я включила на телефоне «Chemtrials over the Country Club» Хэйли Мэри, и под неё дело пошло веселее. Песня Ронни не понравилась, но она была бодрой, и скакать под неё по всему чердаку было весело.
Запрыгнув Ронни на спину, при этом чуть не саданувшись лбом о низко расположенную потолочную балку, краем глаза я увидела тень. Поднятая рука, прогиб в спине, фуэте. В нос ударил колкий запах роз и промороженной земли.
— Чувствуешь? — спросила я шёпотом, так и вися у Ронни на спине. — Запах...
— Какой? — уточнил он, поддерживая меня под колени. — Пылью пахнет.
— Не-не. Розами. И зимой.
— Да, пожалуй, — согласился он. — Веет холодом. Сквозняк, наверное.
— Наверное, — эхом откликнулась я.
И тут позвонила мисс-липучка Одри: рассказала, что нашла себе костюм и спросила, не хочу ли я погулять либо заняться чем-нибудь ещё.
Мы ещё ни разу не приглашали её потусить — наше общение ограничивалось школой. И мне бы ничего не стоило от неё отвязаться, сославшись на занятость домашней работой. Но, слушая её монолог в динамике телефона о том, куда можно пойти, я вдруг поняла, что вовсе не хочу от неё отвязываться. К тому же, мы уже обнадёжили Одри, разрешив пойти с нами на вечеринку. Она с такой радостью взялась за подготовку образов... Было бы ужасно оттолкнуть её теперь, когда она, возможно, решила, что наконец-то нашла друзей.
Пообещав написать минут через пять, я скинула звонок и спросила у Ронни:
— Не против, если придёт Карпентер?
— С чего мне быть против? — удивлённо спросил он. — Дом-то твоей тёти, а не моей.
— Тебя Карпентер разве не напрягает?
Ронни помолчал.
— Немного, — ответил он после паузы. — Голова от её болтовни начинает болеть. Но мне кажется, что она просто жутко волнуется, поэтому и выдаёт такие трели. Знаешь, как некоторые на нервной почве замолкают и слова из себя выдавить не могут, а из неё вот фонтан слов льётся.
— Зато связный фонтан слов, — заметила я. — Обращал внимание, как у неё речь хорошо поставлена? Она как будто читает по бумажке.
— Если бы Карпентер ещё и экала, как мы, её болтовня вообще стала бы невыносимой.
Я позвала Одри к нам — скинула сообщение, в котором написала, что мы с Ронни пугаем рыбок моей тёти, и добавила адрес. Она спросила, что мы едим, и узнав, что на вечер у нас только пиво, приехала с целым пакетом, набитым контейнерами. Мы к тому времени успели изрядно напиться и набеситься.
— Это на скорую руку, — извиняющимся тоном сказала она, выскакивая из машины и вытаскивая пакет с пассажирского сиденья. — Я побоялась, что вы меня не дождётесь, если совсем уйду в готовку.
Я сунула нос в пакет и обнаружила, что в контейнерах лежат спринг-роллы — маленькие и аккуратные.
— Соус, правда, вчерашний, — взволновано добавила она. — Это же ничего?
— Могла бы и свежий приготовить, — пошутил Ронни. — Мы на вчерашний не рассчитывали.
— Он не всерьёз, — поспешила пояснить я, когда увидела на лице Одри испуг. — У нас дурацкое чувство юмора, привыкай. Вина бы к твоим роллам... у Винус сто процентов припасена пара-тройка бутылок красного.
— Я не пробовала вино, — смущаясь, сказала Одри. — Только пива немножко.
— Всё бывает в первый раз, — ответил Ронни.
Вино отыскалось в платяном шкафу в спальне Винус — целая батарея бутылок: белое, красное, сухое, десертное... Можно было притвориться знатоком вин, но Ронни мне всё равно бы не поверил, так что я решила не выпендриваться и сцапала первую попавшуюся бутылку.
Пили мы из обычных кружек — плохо вымытых и отдающих кофейным запахом.
Одри нашла в коробке на чердаке бабушкин наряд — пиджак с огромными плечами и юбку, — и расхаживала в нём по гостиной, цитируя сонеты Шекспира. Я бы, цитируя сонеты Шекспира, звучала невероятно уныло, однако Одри делала это с таким задором, меняя тембр и интонации, что казалось, будто она рассказывала невероятно смешную историю. Либо мы слишком быстро напились, смешав вино с пивом (Одри так точно унесло с первой же кружки), не знаю, но нам было очень весело. Мы делали много всякой глупой фигни: горланили песни, танцевали вокруг дивана, фоткались. Наверное, именно с этого вечера во мне исчезло всякое раздражение в адрес Одри. Я всё ещё привыкала к ней — такой непохожей на нас с Ронни, однако желание избавиться от неё больше никогда меня не посещало.