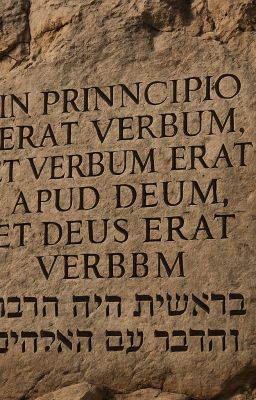Встреча с Марвелом
После утреннего инцидента день, казалось, потёк обратно сквозь время — в вязкую монотонность. Данор, отсидев положенные 12 часов в классе лингвистического перевоспитания, вышел, шатаясь от усталости — не физической, но той, что охватывает разум образованного человека, когда его заставляют вбивать в себя идиомные казни, позорящие само понятие интеллекта. Голова гудела от идиотских лекций по «нормативному согласованию мысли», и внутренний голос давно перешёл на пассивный залог.
Он был в лагере уже несколько лет, но всё ещё не видел тех студентов, чьи слова, идеи и необдуманное восхищение отдалили его от мира и заклеймили как лингво-преступника.
Но этот день решил по-своему.
На одной из протоптанных дорожек, между корпусами, под уставшим светом прожектора, он вдруг увидел идущего навстречу Меравела. Тот почти не изменился — всё та же полуслучайная прическа, умные, но слишком живые глаза. Он махнул рукой, улыбнулся — как старый приятель, забывший, что когда-то сломал тебе ребро.
Данор напрягся, но не изменился в лице. Его взгляд зацепился за фигуру источника своих злоключений, и в груди что-то неприятно заныло — смесь раздражения, ностальгии и горечи. А Меравел, словно ничего не произошло:
— Доктор Данор! — с неподдельным теплом проговорил он. — Как хорошо вас видеть... Вы знаете — мне дали 15 лет по статье лингвистического террора... Я виноват перед вами. Мне жаль, что втянул вас в эту историю и что вас приобщили к нашей группе. Но тогда... мы были уверены, что вы разделяете нас — искренне.
Данор медленно кивнул, задержав дыхание.
— Ничего страшного, — кисло бросил он. — Срок, который мне дали, включал и другие грехи — не только укрытие вашей славной "террористической организации".
В его голосе звучало не просто усталость — обида, накопившаяся за годы молчания, за сломанные мечты, за приговор, который он выучил, как стихотворение, чтобы не сойти с ума.
— Кстати... — продолжил он. — Когда я получил вашу записку — на диалекте УЛКа — я сразу понял, во что меня втягивают. Преступный замысел был очевиден.
Меравел вспыхнул взглядом, будто попытался улыбнуться, но не смог.
— Но... как вы догадались, что там написано? Ведь этот диалект существовал только внутри нашей группы. Он был скрыт...
Данор усмехнулся уголком рта.
— Вы переоценили оригинальность. Фраза "Если вы вразумеете то, что накарябано на сей материи, то возникните в 5 часов семериков в пространстве B43 прогулочной Я98" — это просто модифицированный УЛК с инверсией глагольных кластеров и вставкой самопальных суффиксов. Увы, ваш язык так и не вышел из формальных рамок. Он — искусственный. Как и сам УЛК. А настоящие языки, Меравел... они возникают из хаоса. Как дыхание после бегства. Как шёпот после крика.
Он сделал паузу и заговорил тише — но с резонансом в голосе:
— Настоящие языки — как животные и растения. Разные формы, разные звучания. Но корень один. Лингво-код. Как у генов: хоть внешне они различны — внутри они одинаковы. Структура остаётся.
Меравел молча слушал. Его улыбка исчезла. В глазах появилась тень признания — не поражения, но понимания, что беседа начала резонировать на глубоком слое.
Данор подошёл ближе. Говорил почти шёпотом:
— Скажите... вы ведь не потеряли интерес к нашему предмету? Я надеюсь, что нет. Я... начал посещать один из отдалённых бараков. Там живёт группа заключённых — носителей диалекта, который... удивительно напоминает язык вашей записки. Но он настоящий. Он живёт — звучит, дрожит, сбивается, восстает.
Он порылся в потёртом рюкзаке и достал тонкую, потрёпанную книгу.
— Они доверили мне одну из своих поэтических сборников... Несколько страниц — как глоток кислорода.
Меравел с трудом выговорил:
— Вы серьёзно?.. У вас есть... поэзия? На этом языке?
Данор кивнул. Глаза его загорелись впервые за долгое время.
— Хотите услышать? Только... пообещайте, что не будете интерпретировать. Просто... слушать.
Меравел застыл, будто кто-то нажал на паузу реальности. Глаза расширились, тело будто замерло в ожидании. Он смотрел на Данора с удивлением, смешанным с тревогой — словно прошлое вдруг приняло человеческий облик и заговорило стихами.
Но Данор не стал ждать. Словно в нём вспыхнул внутренний огонь — тот, что давно копился в тишине бараков, в запрещённых разговорах, в строчках, хранившихся под подушкой. Он вдохнул и заговорил — не словами, а слогами, фонемами, смыслами, текшими за гранью УЛКа:
Ныряяся поглубже звезь,
Вцепучкась в липких фраз,
Здахнут ему не расцвелось,
Бульбулькнув из гримас...
Речь будто заволокла пространство. Слова — искажённые, странные — звенели, вибрировали, создавая нечто большее, чем смысл. Это была эмоция, не нуждавшаяся в переводе.
Меравел моргнул. Он словно хотел что-то сказать — но не успел.
Данор, с лёгкой, почти насмешливой улыбкой, поднял взгляд:
— Я уверен, вы всё поняли, — произнёс он с почти невидимой иронией. — Но... я позволил себе перевести этот шедевр на УЛК — чтобы вы сами увидели, как беден наш родной язык, когда пытается описать нечто... по-настоящему романтичное.
Он сделал паузу — как дирижёр перед кульминацией.
«Ныряя вглубь, в пучину грёз,
Запутался в словах.
Ему вздохнуть не удалось
— Он утонул в мечтах.»
Меравел вздохнул. Тихо. Почти незаметно. То ли от восхищения, то ли от боли.
Данор вопросительно взглянул на Меравела. В его глазах читалась смесь иронии и усталого любопытства — будто он ждал подтверждения, что хоть кто-то в этом лагере способен услышать не просто звук, а глубину.
— Ну как? — спросил он, сдержанно, но настойчиво.
Меравел кивнул. Уголки губ дрогнули в странной смеси одобрения и легкой настороженности. Затем он заговорил — осторожно, но с явно намеренным поворотом темы:
— Когда вы на лекции сказали, что на любом языке можно собрать шкаф... — он замолчал, будто выбирая, как лучше подать вопрос. — Вы ведь хотели добавить что-то ещё... как будто слово "Но..." висело в воздухе. Я его услышал.
Данор не ответил сразу. Он скользнул взглядом по периметру, поежился — не от вопроса, а от холода, который пробирался сквозь лагерную форму, въедался в кожу, будто алгоритм наказания.
— Холодно, — тихо произнёс он, уводя разговор. — Неважно, что говорят слова — когда кости стучат морзянкой...
Он указал пальцем на потрескивающий костёр, вокруг которого сгрудились несколько человек. От костра исходило не столько тепло, сколько чувство временной защищённости — редкая роскошь в пространстве, где каждый звук мог стать причиной ареста.
Меравел прищурился. Оценил. Понял. В лагере, где речевые преступники жили бок о бок с уголовниками, было известно: УЛКи — те, кто сидел за обычные преступления, но говорил без нареканий — были не просто фаворитами администрации. Их использовали: для слежки, для запугивания, как живых инструментов внутренней дисциплины. Они были родом из другого ужаса — не языкового, а социального. И у них были свои правила.
Меравел знал их всех в лицо. Он взглянул на костёр, увидел знакомые силуэты — и медленно кивнул, без слов. Подтвердил: они свои. Или, по крайней мере, не враждебные — пока ты молчишь правильно.
Данор и Меравел подошли. Лица у костра сдвинулись, словно по негласному сигналу, освободив место — тепло на редкость конкретное и ощутимое в этом мире, где каждый день был морозом, даже посреди лета.
Данор, не обращая внимания на молчаливых соседей у костра, продолжил разговор с Меравелом, словно им было позволено говорить вслух, а не шёпотом.
— Да, именно — «Но»! — проговорил он с лёгкой тенью возбуждения в голосе. — Если не заниматься сборкой шкафа, не сверлить бытовое и не складывать инструкции, а попробовать выразить философскую мысль, передать чувства, спеть... или — страшно сказать — написать стихи... тогда становится очевидно: каждый язык имеет свою природную склонность. Одни рождены для ритма, другие — для интонации, третьи — для тонких оттенков смысла. Универсальности нет. Есть... предрасположенность.
Меравел задумчиво кивнул, а их огонь получил неожиданного участника.
Седой мужчина у костра, на котором темнел лилово-красный знак лингво-террориста, небрежно достал из безразмерных карманов несколько картофелин, потерянных, как фразы в длинном письме. Он аккуратно, почти священнодействуя, закапал их в горячую золу, будто возвращал земле её забытые корни. Потом отряхнул руки — неторопливо, как будто снимал с них не грязь, а остатки старой фонетики.
Затем он прокашлялся — глухо, но с глубиной, как в предисловии — и заговорил.
Голос его был низким, вибрирующим, словно виолончель, которую раз в столетие трогают рукой музыканта:
— А вот это... уже мысль. Настоящая. Таящая в себе семя языка. Не конструкцию — а корень.
— Я с вами согласен, — сказал Данор, глядя в пламя. — Люди, говорящие на разных языках, видят мир по-разному. Следовательно, каждому языку соответствует своя логика мышления.
— А как вы это докажете? — буркнул проголодавшийся молодой лингво-хулиган, одновременно вцепившись в прокопчённую картошку и пытаясь отлепить от неё пригоревшую кожицу.
— Вы уверены, что она готова? — с ленивой полуулыбкой спросил седой, помеченный лилово-красной меткой лингво-террориста.
— Я так полагаю, — пробормотал хулиган неуверенно, продолжая бороться с клубнем.
Седой хмыкнул, провёл рукой по щеке и заговорил медленно, почти озябшим голосом:
— А вот если бы ты говорил на исчезнувшем языке "матиас", то ответ был бы совсем другим.
Все повернулись к нему. В пламени костра его лицо казалось вырезанным из древесного угля.
— Когда-то описали язык народности матсес. У них — в каждом предложении — глагольная форма меняется в зависимости от уровня достоверности информации. Спрашиваешь у них: "Готова ли картошка?" А они: "В последний раз, когда я её проверял, она была готова."
Он сделал паузу, дал словам осесть.
— Понимаете? Даже если ты видишь картошку прямо сейчас — это не доказательство. Вдруг кто-то утащил половину, или ты забыл, как пахнет готовое. У матсес всё завязано на доказательстве. Поэтому в их языке — нет мифов. Есть только цитаты. Только то, что можно подтвердить.
— Полагаю, носители матсес не годятся ни в журналисты, ни в политики, — хмыкнул хулиган и наконец победил картошку.
— Это напоминает хопи, — вмешался Данор, — у них не различаются форма и содержание. Например, "ведро воды" — это одно слово. А теперь представьте рассуждение: "Форма определяет содержание" — на хопи это будет что-то вроде "содержание определяет само себя через себя."
Седой усмехнулся, слегка качнувшись.
— Но можно не искать древности, а... придумать. Вот токипона — искусственный язык, созданный в XXI веке. Всего 120—230 слов. Каждое — с множеством значений. Названия животных? Нет. Растений? Тоже нет. Хочешь сказать "кошка"? Говоришь "живое мягкое тёплое быстрое существо".
— Звучит как инструкция к подушке, — пробормотал кто-то у костра, вызывая тихий смех.
— Зато писать короткие сообщения удобно. Для поэзии — так себе. Для форумов — идеально. Хотя... можно ведь не придумывать язык, а придумать само его существование.
Наступила пауза. Все потянулись к картошке, наконец признавая её готовность на всех известных языках — и, возможно, на нескольких выдуманных. Какое-то время слышались только хруст и жевание.
Седой, с набитым ртом, вдруг буркнул:
— Тлён.
Все обернулись. Он прожевал, сглотнул и продолжил:
— Язык, который придумал писатель Борхес. Там нет существительных. "Луна поднялась над рекой" звучит как: "Вверх над постоянным течь залунело."
Лингво-хулиган, облизнув пальцы, мечтательно проговорил:
— Мне нравится. Нам бы такой язык... Вместо этого замученного УЛКа.
Данор внимательно посмотрел на него. Взгляд стал острым, как лезвие между страницами. И вдруг — резко вскочил.
— Клин клином вышибают! — воскликнул он и стремительно вышел из круга костра, оставив за собой фонетический след.
Меравел, не колеблясь, бросился вслед. С трудом догоняя, он выбрал момент и заговорил:
— Можно вопрос? — задохнулся. — Из ваших статей ясно, что вы восстанавливаете первичный геном языка. Анализируете все доступные языки. Кроме того, вы утверждаете: новые языки возникают при скрещивании как минимум двух — отца и матери. Отпрыск похож на обоих, но всегда уникален. И потому...
Он запнулся.
— Есть ли у вас доказательства? — выпалил наконец.
Данор остановился. Лицо его было почти неподвижным, но взгляд — живой.
— Да, — сказал он. — Что-то в этом духе. Но с вашей помощью... они могут стать неопровержимыми.
Он пошёл дальше — быстро, решительно. Меравел замешкался. Он не понимал, что именно сейчас началось — но чувствовал: это уже не просто разговор. Это — грамматическая точка бифуркации.
— И есть ещё кое-что... о чём вы не говорите, — Меравел произнёс с дрожью в голосе. Он опустил глаза, будто боясь услышать ответ. — У меня всё сильнее ощущение, что вы сами хотели попасть в Лингво-Лаг.
Он замолчал, затем добавил почти шёпотом:
— На судебном процессе вы не взяли адвоката, не опровергли обвинения. Хотя я, вместе с моей подругой, уверенно заявили суду о вашей непричастности к языковому заговору...
Данор, стоявший у окна, не обернулся. Его тень словно вытягивалась вдоль стены. Он тихо, но отчётливо произнёс:
— Заговору, чьей целью было тайное внедрение и поощрение обучения древних и новообразованных языков среди студенческой молодежи.
Он знал, что им придётся услышать это. Но объяснять, как во время прогулок между бараками он впитывал запрещённые речи, как шёпоты на разных наречиях становились для него стихами, как каждое слово, сорвавшееся с чужих губ, было блаженством... — он не мог. И не хотел.
Для Данора Лингво-Лаг стал храмом звуков, хотя и окружённым колючей проволокой. Здесь он слышал язык квенья, всполохи эсперанто, редкие формулы лингалa и оживлённую полифонию староцерковнославянского, пробравшегося в ночную беседу.
Но слишком долго он жил внутри лабораторных стен, среди лингвистических табу. Вдохновение превращалось в привычку, а привычка — в тягостное молчание. Что-то внутри него уже стучалось наружу.
Он медленно повернулся к Меравелу.
— Иногда, чтобы сохранить язык — нужно потерять голос, — произнёс он. — А иногда... нужно создать совсем новый.
Меравел пронзительно посмотрел на Данора, словно пытался вскрыть взглядом то, что тот так старательно прятал. Было ощущение, будто он слышит не слова, а мысли, закованные в грамматические оболочки. В тишине лагерного ветра, меж обугленных стен и костровой зари, он тихо произнёс:
— Не пришло ли нам время покинуть это место?
Он оглянулся — будто искал знаки. Тени заключённых замерли в ожидании, пламя костра трещало, как усталое сердце.
И тут мимо пронёсся заключённый — в выцветшей форме лингво-хулигана, с самодельным шевроном на плече. Он бежал легко, как мысль, сбежавшая из речевой нормы. И, почти задиристо, выкрикнул на бегу:
"С милой я на УЛКе бачу,
Понимает всё она,
На французском, на собачьем,
Лишь бы я её обнял!"
Фонетическая частушка повисла в воздухе, как ядро нелепости — одновременно смешная и пугающе точная. От неё повеяло свободой, такой странной в этих стенах, что Данор невольно усмехнулся.
Он посмотрел на Меравела:
— Кажется, языки бегут раньше людей.
В это время, испугавшись своей дерзости, лингво-хулиган стремглав метнулся к бараку. За ним поспешил охранник, но, сделав жест рукой, будто отмахнулся от глупости, остановился в двух шагах от Меравела и Данора. Он явно готовился слушать — с выученной настороженностью, как положено надзирателю среди двух особенно опасных преступников.
Меравел бросил короткий взгляд на Данора. Они оба знали: охранники любили патрулировать среди заключённых, вылавливая любые языковые искажения. Чистота речи здесь считалась делом государственной важности. Любая попытка использовать криминальный диалект воспринималась как саботаж воспитательного процесса.
Наказания были разные, но самым суровым считался лингво-карцер. Нарушителя помещали в замкнутое помещение, где без остановки, день и ночь, звучали стихи ПУлкина — главного поэта УЛКа, чьи строки извивались, как змеи, и душили сознание бесконечным ритмом. Это было не просто испытание — это была пытка, от которой многие сходили с ума.
Провоцировать охранников на такое было равносильно добровольному шагу в бездну.
— Прекрасная сегодня погода! Небо — чистое, как незапятнанный УЛК! — на безупречном литературном языке, нарочито громко и отчетливо произнёс Данор.
— Несомненно — чище и быть не может, — живо подхватил Меравел, бросив короткий взгляд на тяжёлые, свинцово-серые тучи, из которых уже начал накрапывать дождь.
Охранник, прищурившись, поднял голову. Несколько секунд — и он понял, что происходит. Понимающее выражение промелькнуло на его лице, и он медленно отошёл в сторону, оставив их в тишине. Данор взял Меравела под локоть и, не говоря ни слова, повёл к навесу. Шум нарастающего дождя и воющий ветер быстро поглотили их голоса.