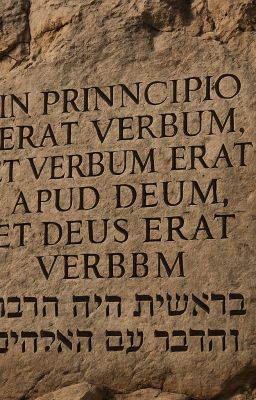Стычка у столовой
Этот, казалось бы обыденный день, начался с тихого шороха тревоги. Перед входом в старый, грохочущий от сквозняков сарай, переоборудованный в лагерную столовую, с утра собралась длинная, сжатая в нетерпелении очередь. Столовая была одна на весь ЛингЛаг, и сюда раз в день стекались все — от новичков до самых закостенелых языковых нарушителей.
Многие пришли из отдалённых блоков, промерзшие, раздражённые, внутренне напряжённые. Уровень агрессии в воздухе можно было резать ложкой — как местную серую кашу, которую выдавали под лживым названием «вербальной питательной массы».
Данор оказался рядом с коренастым, бритоголовым мужчиной, который постоянно что-то бурчал себе под нос. Он уже замечал этого странного типажа в группе, говорящей на настолько отдалённом диалекте, что слух Данора ощущал его как новый лингво-континент. Они были "иностранцы" — таинственные носители того самого заразного речевого вируса, из-за которого УЛК дрожал в основаниях.
Сквозь ледяное любопытство Данор всё время стремился подслушать, вытянуть у них хоть что-то — тона, суффиксы, странные клацанья, гортанные обороты, ставшие его тайным фетишем. Бритоголовый, которого он про себя называл "Бурчалка", сегодня выглядел особенно нервным. Его глаза метались, губы скребли невнятные слова, словно стуча по языковому барабану.
И вдруг, убедившись, что вблизи нет надзирающих, он хрипло пробурчал Данору на своём диалекте:
"Провай отюда, ГавнУЛКа. Мы тебя видаем котый двень."
Данор чуть наклонился — будто бы случайно, чтобы лучше услышать. В этот момент он заметил, как очередь медленно вливается в столовую, а группа "иностранцев" не спешила следовать за ней. Они остались в тени сарая, где ветра не выдували звуки — а только замораживали лица.
Внезапно вокруг Данора сомкнулся полукруг из мужчин — широкоплечих, с глухими выражениями лиц. Один из них, с обветренным, прокопченным лицом, прятал руку за спиной, как будто она сама стыдилась того, что в ней находилось.
— Сколько тебе заплатили за стукачество? — спросил копченый на идеально чистом УЛКе, голосом, как гвоздь, забиваемым в деревянную пунктуацию. Он медленно приближался, ступая мягко, почти мурлыча, как кошка перед прыжком.
Данор не двинулся. Его голос стал подобием их бурчания, но с внятным ритмом:
"Неуж своейных забутузишь? Невной я Улка, а сродней лингвурод. Спокой своих бурдуков и прознихай с другами."
Лица напряжённо двигались. Копченый резко повернулся к Бурчалке.
— Ты чего своейных подкружаешь? Может, сам Улкаешь на ГавнУЛКов?
Все понимали: воздух начал звенеть. Бурчалка, осознав серьёзность момента, резко выхватил из кармана нож — тонкий, острый, как наречие в запрещённой речи.
Копченый раскрыл свою ладонь. В ней блестело что-то металлическое — возможно, самодельный лексико-указатель, возможно, обломок грамматического ключа. Но его другой рукой, как молнией, он ударил Бурчалку в живот, и тот рухнул, выронив нож с глухим звуком — словно точка в конце несказанного предложения.
И тут началось: Остальные набросились — с ожесточённой злостью, словно хотели запинать саму мысль об альтернативном языке. Ноги сыпались на упавшего, звучали фразы:
"Неправильные морфемы тебе в глотку!" "Склоняй в аду, бурдюк!"
Данор, в порыве отчаяния, закричал: "Улки полрубают рядохинка! Кончай пропуху!"
Фраза была достаточно искажённой, чтобы сработать как код — как пароль сопротивления. Все замерли, переглянулись и, будто договорившись, метнулись в столовую, оставив лежащего Бурчалку у стены.
Данор подошёл. Он видел кровь. Видел страх. Протянул руку — не потому что жалел, а потому что хотел удержать этот диалект в живых. Бурчалка с трудом поднялся и, кашляя, сказал: "Спасилка, что помогулся... Ато уже вразумничал, что кряк приводнил мне."
Данор кивнул. Бурча: "Мы повременимся ещё... А пока дюжайка."