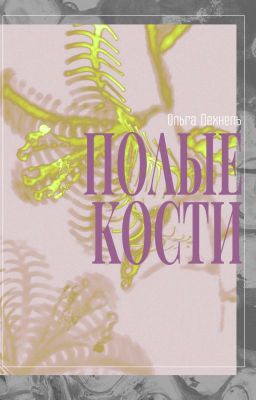Глава 9. ЧТО ОН ПОСЛЕ СЕБЯ ОСТАВИЛ?
Розовую гостиную в Центре используют чаще. По непонятным причинам, она просто приятнее. Все говорят – ближе до кухни, но домовым, на самом-то деле, все равно. Расстояние, особенно в рамках родного дома, для них весьма призрачная вещь. Так или иначе, вторая гостиная в Центре почти всегда пустует. Заглядывают туда редко, чаще преследуя цель, чтобы не нашел вообще никто. Шум доносился как раз со стороны второй гостиной Центра.
Саша влетает в нее первой, буквально выбив дверь, влетев в нее всем телом. Потом будет болеть плечо, но это будет потом. Она слышит напряженное Танино дыхание сразу за спиной. Но кажется, будто слышит абсолютно все. Такие же поспешные шаги Валли и Грина где-то по коридору. У них нет времени.
На полу рычит и извивается человеческий комок, состоящий, кажется, из чистого бешенства. Саша узнает брата и сестру Мятежных без труда. Больше всего пугает, конечно, Юля. Саша до этой секунды никогда не видела, чтобы кто-то дрался так: яростное шипение, царапины, атака, атака, еще атака. Сокрушительная настолько, что отбиться будто невозможно. Юля дерется так, будто ее противник – не ее брат, будто за собственную жизнь. Она в этом абсолютно беспощадна – убийственна каждым движением. Потому что Юля Мятежная в эту секунду была кем угодно, но не девушкой. Яростью, бешенством, смертью. Только не девушкой. Саша не видит ее лица, только растрепанные, темные тяжелые волосы – сплошная завеса. Зато видит Мятежного, сразу под ней. Он и не думает отбиваться или перехватывать инициативу, он делает необходимый минимум, чтобы защититься и больше нечего.
Дело исключительно в том, как он смотрит на сестру – со смесью ужаса и восхищения. Почти не моргая.
Рука у Юли напряженная, в эту секунду больше похожая на птичью лапу, все вены проступают под кожей, не человек, ничего человеческого. В комнате и не пахнет человеком. Пахнет яростью и пахнет смертью – но ведь никто еще не умер, не умер же? Юля тянет за кочергой на полу рядом с ней.
Центры и их камины. Черт.
– Мятежный, мать твою, защищайся! – собственный голос Саша слышит плохо, прыгает, не разбираясь. Юля больше нее. Юля уж точно сильнее нее. У Юли в руках кочерга. Они катятся по полу, новый шипящий клубок, чьи-то руки, чьи-то волосы у Саши во рту, Юля визжит, называет ее сукой. Хорошо, отлично, вот так правильно. Атласная лента ослепительно желтого цвета мечется между ними, путается между пальцев. Откуда здесь взялась атласная лента?
Юля оказывается сверху снова, и в эту секунду Саша замирает, задыхается. Сколько в девчонке силы, она только что точно так же уложила Мятежного – Мятежного из всех людей – на лопатки.
– Ты, – Саша не видит Юлиного лица, оно прочно закрыто волосами, и Саша почему-то благодарна судьбе именно за это. Голос не ее, сухой, низкий, грубый совершенно, будто все смешки, всю девичью прелесть сожрали бесы или кто там живет в этой голове. – Опять будешь мне мешаться?
Желтая лента, темные волосы, светлые волосы, слюна и кровавый привкус во рту – наверное, прикусила щеку, ослепительный желтый, Саша чувствует, как Юлин вес с нее буквально сдирают, видит перекошенное лицо Грина, когда он тянет на себя рычащую, сопротивляющуюся девчонку, успевает боковым зрением заметить Мятежного, которого пытается удержать на месте маленькая Валли. Он будто проснулся, перепачканный кровью и остатками былого шока. Саша в эту секунду знает особенно хорошо: из всех людей в Центре. Из всех людей за его пределами. Взбешенного Марка Мятежного может удержать только один человек – маленькая бойкая Валли, едва достающая своему подопечному до плеча.
Подняться ей помогает Таня, руки у нее ледяные, глаза занимают будто половину лица. В них кто-то разлил тревогу – последнее, что Саше хотелось бы там видеть.
Саша успевает заметить Юлю в ту секунду, когда Грин оттаскивает ее, упирающуюся, прочь, Валли присоединяется к нему в ту же секунду. Она слышит, как Валли говорит ему негромко: «Успокоился? Справишься?» – и получает в ответ короткий кивок. Валли понятия не имеет, насколько хорошо она на самом деле его воспитала.
Юля бросает на нее пронзительный взгляд из-под волос, это одни только глаза – горят бешенством. Лицо все еще остается закрытым. Саша ведет плечами, будто пытается этот взгляд сбросить. Иди прочь. В самом деле. Уходи прочь.
Чужой, не Юлин, грубый голос. Жестокие интонации. Горло будто не хочет пропускать этот звук. Противится будто сама материя. «Опять будешь мне мешаться». Саша смотрит прямо на беснующуюся девушку – другой бы уже выдохся, но не Юля. Бешеная пляска продолжается. Другое тело так бы не выгнулось, но она будто выдирает себе конечности из суставов, стремясь добраться. Куда?
Юлин взгляд фиксируется на брате. И снова.
Грин едва ее держит.
Желтая лента в ее руках, Саша делает одно резкое движение: – Эй, бестия.
Комната смотрит на нее, люди смотрят на нее, у Саши во рту кровь из прикушенной губы и чистое, ничем не разбавленное бешенство.
– Я буду мешаться.
Ответом ей служит низкое рычание, которое не сулит ничего хорошего. Саша не вздрагивает, остается стоять, улыбается широко. Получилось.
Юлю, наконец, выталкивают за дверь. Все бесконтрольное бешенство следует за ней тоже. Мятежный дергается было пойти за ними, но Саша замечает, как Танина рука мягко, но уверенно ложится ему на локоть. Саша не вполне понимает, о чем она говорит. И почему она это говорит. В ушах стучит и во рту кроваво, тошнотворно. Саша вытирает рот рукой, будто это может помочь.
Таня говорит очень тихо, но Саша слышит все равно:
– Не ходи. Она не утихнет пока ты рядом. Сам видишь же.
Саша оглядывает гостиную, тупо пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-то. За что-нибудь. И не находит кочергу, на которую Юля пару минут назад отчаянно пыталась нанизать собственного брата. Саша начинает глухо, собственный голос тоже узнает с трудом:
– А кочерга где?..
Таня ей в ответ только улыбается, с какой-то торжественной, победной лукавостью: – Не благодари.
Саша заторможенно переводит взгляд на желтую ленту в собственных руках.
Она теперь это делает даже не касаясь?.. Изменяет суть предметов?
***
– Ты можешь мне объяснить, как твоя сестра умудрилась достать одного из лучших бойцов Центра?.. – Саша не злилась. Не на Мятежного. Или во всяком случае не на своего Мятежного.
Они сидели друг напротив друга в Сашиной комнате, куда она затащила Мятежного из соображений привести его в порядок и просто потому что ощущение лишнего этажа между ним и Юлей внушало покой, кажется, даже стенам Центра.
Оба помятые и измотанные, кто бы мог подумать, что одна девчонка может учинить такой по-настоящему королевский ущерб. Домовые Марка уже осмотрели, Саша – сама с толстым слоем очередной целительной мази от Зари – заканчивала обрабатывать ему царапины. Как именно до этого дошло она помнит с трудом, только смутный призрак момента, где она осторожно забирает у Иглы чашку с раствором: «Я сама».
Мятежный выглядел не менее потрясенным:
– Ты у меня спрашиваешь? Я до сих пор не понимаю, что там произошло. Она изначально какие-то вопросы задавала. По теме тренировок даже. А потом ее как будто переклинило. Бросилась со спины. С кочергой. А потом лицо.. Ты бы видела ее лицо.
Саша в очередной раз была безумно благодарно за то, что лица-то она как раз не видела. Это было буквально последним предметом в Центре, который ей бы сегодня хотелось видеть.
– И тем не менее. Можно подумать, твоя сестра – первый человек, который на тебя нападает. Чтобы оказать вот такой эффект, – Мятежный чуть скривился – потолок его реакций на дискомфорт, и Саша немедленно переместила ватку дальше, поняв, что в этом месте передержала.
– Я серьезно понятия не имею, что это было. Эффект внезапности? – он все пытался отмахнуться, будто ничего особенного, будто это все мелочи. Саша в этот раз не намерена была позволить ему соскочить с крючка так легко.
– Тогда. Ну. Раньше. Также было? – Мятежный только кивнул, видимо, приняв решение довести сегодня Сашу своим молчанием до исступления. Его сестра напоминала его самого безумно. Саша помнила, как она влетела в Юлю – будто в стену, в железную стену, где все детали – одна к одной и никак не найти слабое место. Саша была практически уверена, что у нее останется синяк. У Юли, наверное, тоже. Вот только она ничего будто не заметила.
Саша поднялась с места, складывая использованную вату в опустевшую миску с мазью – где бы они все были без Зари и ее чудесных целительских штучек. Саша следила, чтобы движения были плавными. А мысль не прыгала. У нее ничего не получалось, конечно же. Ровным счетом ничего.
– Знаешь, что меня поражает больше всего? Ты даже не защищался. Ты просто лежал там и смотрел на нее, как будто получил ответ на все свои вопросы. Если бы я не появилась, скажи мне. Нет, серьезно. Скажи мне. Ты бы просто позволил ей себя прикончить? Вот так легко?
От необходимости давать очередной ответ, который Мятежному давать не хотелось, его спас Грин, обозначивший свое присутствие в дверях. Он до сих пор был слегка раскрасневшимся, и Саша смотрела на него с нажимом, на ее языке это значило «Все хорошо?» Грин коротко мотнул головой: – Никакой магии задействовано не было, я чисто физически устал, потому что сестра вот этого товарища, – он кивнул на Мятежного, – это прирожденное орудие убийства. Мы с Валли вдвоем еле справились, пока Огонь – да, вмешался даже Огонь. Не вырубил ее магией. Проспится немножко и снова вернется в форму, Марк, не смотри так. Это ваша порода, вас и из пушки не убьешь. Тем более, если бы она продолжила метаться так, как металась, – Грин опустился на край кровати, издав облегченный вздох, – Ну наконец-то. Так вот. Если бы она продолжила метаться так, как металась, у нее были бы реальные шансы выкосить всех в Центре и еще больше навредить себе.
Грин устроился, подложив одну из Сашиных подушек себе под спину, на Мятежного он смотрел так, как только Грин Истомин может смотреть. Он никого ни в чем не обвиняет. Ни в коем случае. Никого не осуждает. Но смотрит прямо в душу и кажется, что знает абсолютно все. Саше сейчас очень не хотелось оказаться Марком Мятежным, если честно. Грин продолжил чуть тише, мягче, Саша слышала, как он старается удержать внутри рвущуюся эмоцию и голос его чуть подводит. Если не прислушиваться – в жизни не заметишь.
– А пока твоя сестра отсыпается под присмотром Валли, может, ты объяснишь нам, что там на самом деле случилось? Ее сторону мы тоже выслушаем. Но твоя меня интересует даже больше. Потому что Юля, очевидно, не в себе. И свидетельства ее по-настоящему ценными быть не могут.
Мятежный избегал смотреть на него и избегал смотреть на Сашу, ограничился тем, что уперся взглядом в Сашину гордость – фикус. Фикус она вытащила из той самой злополучной гостиной еще давно, но своего блеска он достиг только в ее комнате. Мятежному фикус никогда не нравился, он называл его несуразным. Потому такое пристальное внимание Саша могла объяснить только нежеланием или невозможностью смотреть на кого-то из них.
– Она и не вспомнит ничего, когда проснется. Ее бесполезно будет допрашивать, надо бы сказать Валли. Завтра она будет в полном адеквате и ничего не вспомнит. Ну. В адеквате. В своем обычном состоянии – все сатанинские смешки и жуткие обещания, а также стандартное амплуа гота-переростка, – Мятежный дернул плечом, все его тело буквально кричало о том, что он хочет, чтобы его оставили в покое.
Саша мысленно скалилась, раздражалась с каждой секундой все больше.
– Так значит, это реально не в первый раз происходит? Тогда было также? И ты вот так спокойно об этом сообщаешь? Нет, подожди. Я не слезу с тебя, ты меня знаешь, – Саша понимала это прекрасно, Мятежный знал. Прессовать его на предмет секретов, на предмет всех тех разговоров, которые он так отчаянно не хотел разговаривать, было чем-то вроде ее особого таланта.
Может быть, не нужно вовсе на него сейчас давить. Но я знаю, что он сейчас сделает – законсервирует чувство, и ответ мы не получим до тех пор, пока следующая попытка Юли добраться до брата не увенчается успехом. Только ответа не будет и тогда, потому отвечать будет некому.
К удивлению Саши, помощь пришла с той стороны, которая обычно работала между ней и Мятежным буфером. Грин дернул ее за край футболки, приглашая сесть рядом, одну руку он оставил у нее на боку, будто ища поддержку: – Знаешь, я ведь всегда уважительно относился к твоим тайнам. Я не Саша, – он улыбался, вроде «не принимай на свой счет», – Не лез под кожу, не тряс, как котенка за шкирку. Но если ты хочешь заставить меня смотреть, как твоя сестрица нанизывает тебя на другой рандомный кусок арматуры – я хочу знать, чем я обязан радости наблюдать все это? В этот раз никто из нас никто не купится на крайне убедительный рассказ про противоречия между братом и сестрой. Что должно лечь в основу такого противоречия, что даже когда Саша вышибла у нее арматуру, она все равно выглядела так, будто хочет вцепиться тебе в глотку.
Саша смотрела на него пораженно, Грин все так же точно выбирал слова. Все так же почти не менялся в лице, выглядел невероятно спокойным, румянец недавнего препирательства с Юлей почти покинул щеки. Но в его голосе она читала глухое отчаянье, он пытался достучаться и не слишком верил в успех этой операции. Мятежный схлопнулся и не хотел впускать их дальше. Саша добавила негромко, хотя ее слова едва ли смогли бы глобально исправить ситуацию.
– Грин уважал твою приватность достаточно долго. Я в этом, может быть, не так преуспела. И ты можешь лежать и позволять ей терзать себя. А я не позволю. Так что, когда мы с ней в следующий раз обнаружим себя в том же недвусмысленном положении на полу – я хочу знать, почему мы там оказались. Марк. А еще лучше не оказываться там вовсе. Почему Юля делает эти вещи?
Она ждала молчания, долгой, мучительной паузы, бог знает, чего еще. Ждала грубого отказа, ждала, что он сорвется с места, отпихнув их обоих – пусть даже Саша не верила, что существует реальность, в которой Марк Мятежный всерьез способен оттолкнуть от себя Грина Истомина. Ждала чего угодно. Вместо этого он сделал глубокий вдох, Саша молчала. Саша ждала. Она чувствовала по тому, как чуть сжались пальцы Грина у нее на коже, что он ждал тоже.
– Юля делает эти вещи, потому что это я виноват. Потому что после смерти отца она действительно сама не своя. Я не знаю, старая эта травма, безумие или старый ублюдок – я надеюсь его кости давно истлели, а если нет, то сейчас они ворочаются и не могут найти себе покоя – ее все-таки проклял. Я реально не знаю. Но она была там. Стояла там и все видела. И с того момента больше никогда не была прежней. Юля пытается вцепиться мне в глотку оправданно. Потому что она все видела, потому что она все знает, потому что, наверное, она до сих пор мне не простила и у нас не было возможности поговорить об этом.
У Саши было всего несколько секунд, чтобы сложить составляющие. Руки у Мятежного тоже были напряженные, каждое слово он будто выплевывал. Пусть будет так. Это честность и честность жжется. Саша понятия не имела, чем грозила им эта честность.
– Нашего отца убил я. Юля все видела. Вот и все.
***
Есть правды. И есть правды. Которые напоминают нам о том, что большая часть вещей все-таки не может быть красивой, что даже под самой красивой оберткой может находиться нечто жуткое. Правда по определению не должна быть красивой, это ровно тот момент, когда ты смываешь всю краску, всю позолоту, и что окажется под этим слоем – никто не знает. Правда, неприглядная и жуткая, мертвая, смотрела на них из темных глаз Мятежного. И никто из них не был подготовлен, никто из них не знал, что с ней делать. А больше всего, кажется, не знал этого сам Мятежный.
Саша молчала, слова не шли. Все, что она могла сейчас сделать – не отворачиваться от Мятежного. Это ее собственная честность, ее потолок, на который она была способна. Мозг метался, искал оправдания. Есть ли оправдания убийству? Был ли он уже достаточно наказан за то, что сделал? А что он сделал, помимо очевидного?
Грин заговорил первым, осторожный, взвешивающий каждое слово, потому что каждое слово могло перевесить, сломать подобие хрупкого баланса, сохранившегося в комнате:
– Как это случилось? – он уловил не движение даже, его тень, потянулся вперед всем телом, будто спущенная тетива, дернулся, это было одно движение, всего одно, поймать Мятежного, удержать его здесь.
Все те разы, когда Мятежный вел себя так, будто ему здесь нет места. Будто он может всерьез кого-то испачкать прикосновением. Будто он был чем-то хуже или чем-то не заслуживал. Будто с ним было что-то не так. Все они наконец обрели в Сашиной голове смысл. Все те разы, когда он говорил ей, что она чего-то не знает. Она действительно чего-то не знала. Скорее всего, не знала всего.
Пальцы Грина крепко сжимали рукав Мятежного, вперед он дернулся так резко, что утянул с собой Сашу, они все оказались втянуты все в тот же неловкий треугольник, Саша замкнула его, опустив ладонь Мятежному на плечо.
– Пожалуйста.
– Он не был хорошим человеком, – Мятежный говорил так, будто за эту мысль цеплялся больше всех он сам. – Говорят, он был хорошим ученым. Первоклассным. Сделал для обоих миров невероятные вещи. Но он не был хорошим человеком. И был откровенно говоря хреновым отцом. Его одаренность не знала пределов, но он понятия не имел, как выходить за пределы собственной головы. Был холодным и отстраненным, а потом в его лаборатории что-то шло не так и он превращался в гребаного берсерка, мы никогда не знали, когда его переклинит от холодности к жестокости и обратно. Крушил все, до чего мог дотянуться – до нас тоже. Я всегда.. Чувствовал себя с ним.. Покинутым. И никогда в безопасности. Будто меня закрыли в очень маленьком и очень темном ящике. И я знаю, что где-то здесь есть гремучая змея. И если я пошевелюсь, если я вдохну сильнее нормы – он бросится. Всегда были только он и его исследования. Ему не было дела до меня, только как до человека, который продолжит, когда его не станет. Черт, он трепался о своих порошках, артефактах и вычислениях часами. Все искал частицу правды, – Саша видела, как он кривится. Есть правда. А есть чужое множество правд, и одни оказываются уродливее других, ведут к необратимым последствиям. – Ему не было дела до матери, я слышал, как он говорил, «Иногда мне кажется, что я тебя выдумал», она была красивая и пустая, и ей в ответ не было дела до нас. Это был такой огромный дом. И такой холодный. До Юли ему не было дела в большей степени, она была слишком шумная, слишком подвижная, постоянно все роняла. Мне казалось, он брезгует. Сейчас, когда я вспоминаю, как он к ней относился – так оно и было, наверное. Ему было противно. Маленькое, нечистоплотное существо. Нет, до Юли ему дела не было, было даже неприятно, она слишком сильно нарушала его комфорт.
Саша видела Мятежного-старшего всего однажды, на фотографии какого-то Московского ученого совета. Ей казалось, что она видела корону у него на голове, которой там быть, конечно, не могло. Сын был похож на него. Дочь была похожа на него. Были ли все открытия – жуткие и великие, которые он оставил после себя, похожи на него? Саша слышала, что от него ждали великих свершений, но ему просто не хватило времени. Это время, оказывается, у него украл собственный сын. Саша не спрашивала про «тот день». Грин молчал тоже. У Марка Мятежного было все время в мире. Его собственное. И отцовское.
– Я теперь думаю, что они с Иваном работали в одном направлении. Он стоял на пороге какого-то открытия, говорил о нем много – я не понимал половины. Но это вроде было связано с тем, чтобы перенести качества неживого артефакта на живого человека. Ну.. Вы все же предполагаете, что у Тани это все от артефакта. Короче. Неважно. Речь была о.. Переносе. Черт, мне было одиннадцать, я ни хрена не понимал в его псевдонаучном трепе, а когда пытался понять – урод никогда не говорил мне ни слова похвалы. Говорил только, что он в моем возрасте соображал быстрее, но лучше так, чем никак. Я за всю жизнь не слышал от него ни одного доброго слова, серьезно. Это всегда была критика, критика, критика, критика, – наблюдать за Мятежным было тяжело, он ни минуты ни сидел спокойно – менял позу, нервно стучал пальцами по колену, неподвижными оставались только глаза, он смотрел куда-то очень далеко, дальше пределов комнаты. – Может оно и лучше, чем быть Юлей в этом раскладе. С ней он не разговаривал вообще. Я помню ее в детстве, она вся была «папа-папа-папа», пока не поняла, что «папа» не отзовется все равно, и тогда ее линия сместилась, превратилась в «Марк-Марк-Марк», а он будто не заметил. Что она была, что ее не было. Может быть, ему стало чуть проще. Никто не крутился под ногами. Черт. Я ничего не знаю! Вообще ничего о нем не знаю. До сих пор. И что, блин, творилось у него в голове.
Ему было одиннадцать лет. Когда он убил своего отца – человека, на которого мальчишки смотрят больше всего. Даже я. Даже я смотрела на своего огромными глазами, я не знала человека лучше него. А Марк.. Марк этого был будто начисто лишен. Что этот человек им дал, кроме многолетней, растущей пропасти между ними? Это травма, у нее есть зубы. У нее отцовское лицо. Это травма, и она вас сожрет.
Они с Грином были очень и очень тихими, до сих пор не убрали от Мятежного рук – возможно, это именно то, чего он от них ждал. Что они отнимут руки. Как от прокаженного. Но Саша только крепче жалась к теплому боку Грина, даже не думала смещать руку, и слушала.
Мятежный спотыкался, будто слова царапали ему горло. Может, так и было. Но продолжал все равно. Есть правда, которую нельзя оборвать на полуслове. Ты сказал одно – и ты пропал. Пока ты не договоришь, она тебя не отпустит.
– В общем. В тот день у него случился прорыв, из своего кабинета он вывалился какой-то почти торжественный. У него, знаете... Постоянно умирали звери. С которыми он работал. Вот конкретно над этой штукой. Я помню, как мы с ним собирали трупы. Как выносили. Как закапывали или жгли. Неважно. А в тот день выжил хорек. И он вышел из кабинета и первое место, куда он дернулся – это к Юле. Господи, он даже ее не замечал до сих пор. Вообще не замечал. По имени не называл. А тут прямым ходом, знаете. «Иди сюда, дорогая». Юля на тот момент перестала вестись на подобные вещи. Столько лет тотального игнора, и вдруг такая нежность. Но это же отец. Ему же не отказывают. И знаете, я это помню четко, она шаг вперед делает, а я в эту секунду понимаю, чем на самом деле все кончится. Это же не для того, чтобы хорьки были особенными, делалось. Это для людей. И я помню, как спрашиваю, куда он ее ведет. А он мне отвечает, ровно так, спокойно. Все еще торжественно. Что хочет сделать ее особенной. Что вот теперь она, наконец, станет полезной. Одаренной. Принесет пользу. Будет не просто зрячей. Повторял это слово как заведенный. Особенной. Особенной. Мне никогда не казалось, что
Юля была недостаточно особенной, знаете.
Он сделал глубокий вдох, Саша смотрела, как он выдыхает, как напряжение его не отпускает ни на секунду, он даже дышал через силу. Ей хотелось помочь. Может быть не ему сейчас, но ему много-много лет назад. У нас нет машин времени, у нас не было людей, которые могли бы нас обнять, взять за руку и увести от всего уродливого подальше. У нас не было этих людей. Но ведь эти люди есть сейчас. Слышишь?
– И тогда я вмешался. Начал задавать вопросы. Он терпеть не мог вопросы, если честно, ему все время казалось, что я спрашиваю неправильно. Не так формулирую, неправильно смотрю на вещи. И тот раз – он исключением не был. Отец взбесился, оттолкнул меня, схватил Юлю – она уже тогда была близка к истерике, металась между нами, пытаясь успокоить. Все, чтобы мы не ссорились – она терпеть не могла весь этот негатив.
Саша могла это представить, крошечную фигуру, рвущуюся от одного к другому, тщетно пытаясь успокоить. Почти ощутила ее беспомощность. Едва ли Мятежный сам тогда был фигурой крупнее. Все маленькие и беспомощные перед человеком, который должен был защищать. Защиты не было.
Мятежный продолжал, голос начисто лишенный окраски:
– И когда он ее потащил, это знаете.. Это будто ничего нельзя исправить. Если я сейчас ничего не сделаю – реально не сделаю. То ничего нельзя будет исправить, сука, я.. Да я уже почти видел, как мы с ним закапываем ее как все трупы животных до этого, и она такая же холодная и твердая. И это просто. Отвратительно. Я бросился, потому что.. Я не знал, что с ним еще делать. Я не знал, как его остановить. Он всегда был сильнее меня. И он никогда не останавливался, чтобы выслушать.
Сильнее Мятежного. Валли говорила он был сильнее взрослого мужчины уже подростком. Подобная мощь – это сокрушительное что-то. Был ли Марк продуктом очередного его эксперимента? Или все они потомками каких-то богатырей, тоже необратимо деформировавшихся под давлением Сказки? Вопросы. Вопросы.
– Он упал и обо что-то ударился, видимо, я сильно налетел. Или это был эффект внезапности. Или потому что он еще упирающуюся Юльку за собой тащил, я не знаю. И что-то.. Я не знаю. Что-то сломалось, наверное. Но он еще долго лежал, шевелиться не мог, и.. Смотрел на нас. Просто смотрел. Но смотрел так, что лучше бы он тогда меня проклял, мне казалось он даже тогда к ней тянется. Мысленно. Я помню, как держу ее, она скулит, жалобно так, а он хрипит, мерзко, и это сплошное: «дай, дай, дай, дай.» будто бы. Я не сообразил вызвать врача или лучше знахарку там какую-нибудь, не знаю. А сейчас думаю, что и не хотел соображать. Даже если бы ему поставили на место его отвратительно гениальную голову – в ней бы ни хрена не поменялось. Он бы пришел за ней снова. Он бы и за мной пришел, разве такое непослушание прощается? И по кругу. Я до сих пор помню, как именно он смотрел. Мне кажется, это как у тараканов. Оторви голову – еще три дня бегают. Так и он. Проломи голову. Еще несколько дней бегает и пытается закончить эксперимент. У него не было этих дней. К счастью.
Он до сих пор его боится. Саша застыла, пораженная осознанием Ее потеря была давней, не оставила ни крупицы присутствия родителей в ее жизни Для Мятежного все это до сих пор было реальным. Хрипящий на полу отец. Перепуганная, жмущаяся к нему сестра. Монстр, который придет за ними. Он до сих пор его боится.
– Потом вернулась мать, он к тому времени уже.. Все. Я не мог от него отойти, боялся, что он встанет. Я вообще. От него. Не отходил. Мне все казалось, это не кончено. Что он вернется. Что так просто мы не могли обойтись. Мать все прекрасно поняла, но не стала делать из этого скандал, представила все как несчастный случай. Просто когда началась вся чертовщина, когда Юля полезла на стену – она не вмешивалась. И когда я побежал, потому что Юлю коротило от одного взгляда на меня – она не стала меня останавливать. Отец был ее прекрасным монстром, она не хотела никого из нас – хотела красивой жизни рядом с подающим надежды светилом науки. Мне все казалось, она играет. Как в кукольном доме. Во всех нас. Никогда не выросла по-настоящему. Видимо, до сих пор. Так что я.. Сорвался. Через месяц, наверное, после похорон. И.. Думал, что все осталось позади, что все закончилось. Думал, она успокоилась, если меня там больше не было. Но вот она здесь. Снова лезет на стены, снова хочет спустить с меня шкуру – она не похожа ни на кого. Только на него. И немного на меня.
Он до сих пор боится.
– Это не убийство, – Саша слышала звон в собственном голосе, плохо скрытая ярость. На мужчину, который должен был быть отцом, защитником и учителем, а превратился в монстра в темном углу комнаты. На женщину, которую никогда не волновал в этой жизни никто, кроме ее собственного комфорта – судя по всему. Может быть, Саша торопилась с выводами. Она всегда торопилась. Только сейчас все равно казалось, что опаздывает.
– Я дал ему умереть. Не попытался ничего изменить. Просто смотрел. Боялся пошевелиться. Вдруг это развод какой-то и как только я встану, он добьет меня и отберет ее. Это убийство. Ничего не сделать – это тоже убийство, – Мятежный поднял на нее глаза, взгляд у него был нехороший, чем-то неуловимо напоминавший взгляд его сестры в ту секунду, когда они с Сашей катались по полу, – И знаешь, я ведь ни о чем не жалею. Я это имел в виду, когда сказал, что надеюсь ублюдок там гниет и ворочается. Я не хочу, чтобы он обрел покой. Посмотри на нас. На меня. На Юлю. Что он после себя оставил? Я не хочу, чтобы у него там все было радужно и пушисто. Не хочу.
Саша всплеснула руками:
– Это долбаная самозащита! Чем бы там все закончилось иначе? Трупом сестры среди кошечек, крысок и собачек? Твоим тоже? Не смей так говорить, – она прервалась на полуслове, ощутив, как рука Грина ощутимо сжалась у нее на боку, призывая к тишине. Саша повернулась к нему, чуть растерянно, вроде «что такое?»
– Валли знает? – Мятежный кивнул. Конечно, Валли знала. Валли знала абсолютно все. И все снова имело смысл. Все обрастало новой логикой. Как Мятежный всегда бросался – всегда делал. Вечное искупление за одно непринятое решение. За одно несовершенное действие. И как Валли всегда пыталась защитить его – их всех. Но Мятежный был особым случаем. Даже когда она едва стала доставать ему до плеча. Он всегда оставался ее мальчиком.
– Убийство – это всегда убийство. И это отпечаток, который мы будем нести всегда. Это часть нашей с тобой работы, помнишь? Если очередной малый бес отказывается кооперироваться. Если Сказка дичает и становится бесконтрольной, опасной для самой себя и окружающих, мы их зачищаем. Это грязно. И это некрасиво. И далеко не всегда мы испытываем сожаления, ты сожалеешь о спятившем баечнике, который хотел сожрать мое сердце? Но это..
Мятежный перебил его, тряс головой остервенело, Саша на секунду занервничала, что сейчас у него тоже что-нибудь сломается:
– Вы вдвоем можете перестать оправдывать убийство? Моя сестра, которая видела все, что было «до», не может его оправдать и хочет перегрызть мне глотку, а вы двое..
– А я перегрызу глотку тебе первому, если ты снова ей позволишь тебя достать! – Саша взорвалась, срываясь почти на крик, вцепляясь в него пальцами так, что скорее всего останутся синяки. – Думаешь, своей смертью что-то искупишь? Да ни черта подобного. Слушай меня. Я не знаю, что с Юлей. Но ты сам видишь, что что-то не так. Поэтому она ведет себя так, как ведет. А ты.. Ты убил своего отца – допустим. Но знаешь, что еще важно? Что ты был ребенком. И на твои детские плечи была возложена ответственность, которую ты не должен был, слышишь меня, не должен нести? За тебя. За сестру. За его постоянные перепады настроения. И когда вещи накалились до предела, ты среагировал так, как мог бы среагировать только отчаявшийся ребенок – снося все на своем пути. И тебе просто не повезло – или повезло, тут уж как посмотреть, что все случилось так, как случилось тогда. Упади он иначе – ты мог бы сейчас здесь перед нами не сидеть. И ты знаешь? Честно? Я рада, что ты сейчас здесь. И я блин даже рада, что Юля цела, хотя я понятия не имею, как с ней быть. Ты не несешь ответственность за ублюдство, которому тебя подвергли взрослые. Тебе было одиннадцать. Ты был ребенком. Ты не мог отвечать за все его мерзости.
Мятежный слушал молча, смотрел в ее лицо напряженно, будто пытаясь там кого-то узнать, что-то найти:
– Знаешь, я когда тебя увидел впервые – ты вплыла в Центр принцессой, я сразу сказал Грину, что ты похожа на мою мать.
Грин издал смешок:
– О, это я помню. Его всего скрючило. И это только от одного твоего вида. Этот пассаж про «пустоголовая, поверхностная, красивая до приторного, БЕСИТ ГРЕБАНАЯ ПРИНЦЕССА» я слышу до сих пор, – он мог сказать больше, Саша видела, что хотел сказать больше, но вместо этого дал Мятежному продолжить.
– Ты мне тогда показалась, да.. Красивой до приторного. И я думал, господи, как отец. Те же типажи. Гребаная генетика. Меня поэтому в частности от одного твоего вида трясло. Но я не об этом. Просто ты сейчас говоришь точно так же, как Валли. Ровно та же мысль, когда я впервые пытался донести до нее суть происходящего.
Одно Саша знала точно – за Валли он бы разобрал мир по кусочкам. И собрал бы заново, когда Валли его об этом попросила. Она не стала говорить ничего, потянула Мятежного на себя, это дружелюбное почти:
– Иди сюда, придурок.
Обнимать его крепче. Объяснять лучше. Показать, что не противно. Не злюсь. Что все понимаю. Мы будем рядом, и это, конечно, не панацея. Но однажды мы все научимся.
Она слышала Грина, слова негромкие, но ровно те, которые нужны были в эту секунду, он обнимал их тоже:
– Все будет хорошо. Мы все исправим, увидишь. Мы будем с тобой рядом всю дорогу. Сколько сможем. Это обещание.
Это обещание было большим, чем он мог дать. Саша вспомнила, что часики тикают. Что однажды ему снова придется использовать магию. Что чудесная кровь солнца – волшебного коня Яги, не будет укреплять его вечно. Эффект уже рассеялся, он уставал быстрее. Выглядел бледнее. Болезненнее.
Но все они были здесь, в одном месте, в крохотной точке пространства. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Это обещание.
Если Сашиной шее и было мокро в том месте, где в нее утыкался лицом Мятежный – она делала вид, что не замечает. Пусть. Если ей самой хотелось разреветься – пусть.
Обещания даны. Все будет хорошо.