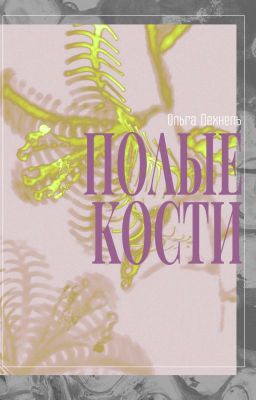Глава 5. МЫ ХОТИМ ТАНЦЕВАТЬ
Мятежный, Грин и Саша шли по коридору Центра, больше напоминая живую инсталляцию на тему уныния. Ощущение странное, продиктованное скорее тем, что долгое время ты находишься в работе и бежишь, как сумасшедший. Ты нужен. А потом тебя будто марионетку снимают с веревочки и говорят: «Передохни немножко». Причем ты до последнего не знаешь, куда тут ставить ударение. Передохни или все же передохни.
Им, конечно, не сказали передохнуть, скорее выставили с урока Ноя и Тани, как по-человечески хрупких зрячих. Или как слишком неугомонных зрячих, что тоже вариант. И после Валли им сообщила, что обсуждать дальнейшую стратегию они будут чуть позже, нужно посмотреть, что покажет урок. По какой-то нелепой причине, все присутствующие надеялись, что Иван будет вести себя тихо как мышка, потому что любое громкое заявление означало бы сознаться в прегрешениях.
В тишину Ивана верить не приходилось. Саша до сих пор находилась в дурацком, муторном каком-то убеждении – она знает его лучше Валли. Понимает чуть лучше Валли. Его порывистую импульсивную натуру. Его горящее желание, его нетерпение, он привык получать сразу, по первому требованию. Он не умел тихо. Он был гребаным солнцем. Не тихой мышкой. И никто не посадит его в мышеловку. И даже если не Иван. Даже если не вечный, бесконечно возрождающийся Иван. Был еще Виктор. Тихий Виктор, жуткий Виктор, продуманный Виктор. В Сашиных глазах он оставался кем-то вроде монстра из-под кровати. Ты не боишься монстра. Ты боишься темноты и неизвестности. Темнота и неизвестность – как раз те компоненты, из которых Виктор был создан. Саша сердито, шумно выдохнула. Клетка без видимых на то причин сжалась еще больше, пока прутья не уперлись ей в ребра.
– Саша? Ты слишком громко думаешь.
Она вздрогнула, выныривая из мысленного болота, чтобы найти улыбающегося Грина прямо перед собой, он чуть качнул их руками – о том, что они держались за руки, Саша запоздало вспомнила только что. Боковым зрением она отметила, как чуть притормозил идущий впереди Мятежный.
– У меня нет повода громко думать, скажешь? Иван. Серьезно. Это все Иван. Я даже удивиться как следует не могу? А у Ивана Виктор. И колдуны. И я не понимаю, откуда взялись все эти покойники. Или понимаю, подождите. И весь его неограниченный запас ресурсов? Может они сию секунду на Центр маршируют? Всей толпой!
– Никто никуда не марширует, выдохни, ты дергаешься. И, повторюсь, слишком много думаешь, – Грин дотронулся до ее носа указательным пальцем. Саша честно попробовала выдохнуть, но не получалось. Все было слишком громко, и всего было слишком много. Вот до этого, пока все на самом деле крутилось, вертелось и шумело – много не было. Было в самый раз. Но стоило остаться без дела, в оглушительной, давящей какой-то тишине коридора. И она понятия не имела, что с собой делать. И свет был слишком яркий, прикосновение слишком осязаемое. Грин не дал ее круглым глазам сбить себя с толку. Как он может всегда оставаться настолько невозмутимым? Неважно, что происходит. Грин продолжал: – Он должен быть точно также сбит с толку, как мы с вами. Я уверен, он не рассчитывал, что у Яги в доме кто-то окажет сопротивление. И уж точно не рассчитывал на то, что кто-то утащит Таню прямо у него из-под носа. А Таня – слишком опасный свидетель. И смертельное оружие к тому же. Никто никуда не марширует. Ему надо подумать. И нам надо подумать. Время есть. И от того, как мы им воспользуемся, зависит буквально все. Может быть, в этот раз Московский комитет в конце концов нас поддержит? Было бы неплохо раз в жизни, как думаешь?
Московский комитет нас поддержит. Звучит как локальная шутка. Московский комитет скорее удушится собственным дорогущим галстуком, чем нас поддержит. Мы оба этом знаем, но смешно же?
– И еще Таня, – Саша не сдавалась, никогда не была человеком, легко слезающим с лошадки, которую уже успела запрячь. Даже, если эта лошадка – иррациональное неконструктивное беспокойство. – Я имею в виду.. Она и ее реакции на незнакомцев? И.. Я не то, чтобы не доверяю Ною. У меня все основания доверять Ною. Но если что-то пойдет не так? А в этом случае «не так» – это угроза катастрофы и разрушенного до основания Центра? Не говоря уже про и без того шаткие остатки психики конкретной личности?
Сначала был вздох, тяжелый, максимально утомленный, Мятежный, видимо, из последних сил сдерживался последние пять минут, предоставляя возможность Грину разрешить ситуацию, но терпение его подвело, он включился, наконец, в диалог.
– Озерская, я думал все это время, то беспокойная многодетная мать у нас одна. И та имеет тенденцию из мамаши превращаться в генеральшу за считанные секунды, – Саша не успела отметить, когда Мятежный оказался рядом, оттеснил Грина ловко, или Грин сам был рад смене караула и поспешно отошел в сторону. Саша бросила было испепеляющий взгляд на последнего, будто намекая, что для сына Великого Змея он как-то слишком охотно бежит от перепалки, но Грин только широко, зубасто улыбнулся, все те же не совсем ровные клыки, Саша почти не сдержалась – не улыбнуться в ответ было сложно.
– На меня смотри, – голос Мятежного вернул ее в собственную голову моментально, Саша упрямо уставилась на него, всем своим видом демонстрируя, что упираться будет до последнего. – Выключи мамашу и включи мозги. Твою Татьяну нужно обучить, иначе она точно разнесет и себя, и Центр. И хорошо, если не весь город. Ее мотает, как говно в проруби. У меня от нее в глазах рябит, серьезно. Ни на секунду в одном состоянии не задерживается. Ной – стена. Его этими мотаниями не прошибешь. Пусть разбираются. Пока у нас на это есть время. Ладно?
Саша буркнула хмурое: – Ладно, – не желая признавать чужую правоту скорее из вредности.
– Вот и хорошо, – в эту секунду Саша четко знала, что обучаться надо не только Тане. Движение она почти не заметила, только его начало, а в следующую секунду уже болталась у Мятежного через плечо, рассматривая веселящегося Грина.
Саша почти рычала:
– Что я тебе говорила про будешь носить как принцессу, а не как мешок с картошкой??
– Прекратишь вести себя, как истерящий мешок, – тогда поговорим.
– Тем более, – заметил Грин, Саша неудобно вывернула шею, чтобы посмотреть на него, как раз вовремя. Успела застать замечательно ехидное выражение на лице. Грин Истомин на девяносто пять процентов состоял из благородного спокойствия. Но оставшиеся пять процентов. О, эти пять процентов, – У Тани какой-то совершенно очаровательный краш на тебя, так что не думаю, что она разнесет Центр, пока ты здесь. Как тебе такая подушка безопасности?
– У нее нет никакого краша, Гриша!
Мятежный хмыкнул, а после расхохотался, Саше хохот не нравился совершенно, на плече ее трясло и подкидывало, а направление их движения для нее и вовсе оставалось загадкой: – Озерская. У всех здесь есть на тебя большой и толстый краш. И даже не потому что ты такая безупречная кошечка. А потому что ты не успокоишься, пока не будешь нравиться всем. Или не выжмешь хоть какую-то эмоцию. Но в идеале, конечно, нравиться. Чтобы целовали лапки и носили на ручках. Иначе ты звереешь.
– Дружеский краш, – немедленно подсказал Грин, улыбка все шире, им в самом деле было смешно.
– Но ты же! Ты же несешь меня на руках, придурка кусок, а ты, Гриша. Мне не нравится, когда вы вдвоем объединяетесь против меня, – она изловчилась, умудрилась укусить Мятежного за спину, он, впрочем, не выглядел сколько-то впечатленным, наградив ее шлепком пониже спины.
– Рассматривай это как я несу раненого товарища. В голову.
– Потому ты несешь меня вниз головой?
Мятежный свалил ее на кровать в его комнате, Саша с ворчанием ткнулась лицом в знакомое покрывало. Он не слишком заботился об аккуратности движения. Вроде бы. Саша не могла не заметить, как ее еле заметно придержали прежде, чем она коснулась кровати, тут же свернулась комком и приготовилась атаковать: – Я не веду себя так!
– Ведешь. Но никто не сказал, что это плохо. Это вроде потребности Истомина быть самым умным и спокойным, – Саша услышала возмущенное «Эй» где-то за спиной у Мятежного, тот продолжал невозмутимо. – Или моей собственной тяги из любой конфетки сделать полную жопу и радостно в нее провалиться. Это черта характера. Бери или проваливай.
Саша вопросительно приподняла брови: – Ты когда успел стать таким философом? – возможно, это на самом деле был самый длинный монолог Мятежного, не нацеленный на личные оскорбления, угрозы и обмен яростными замечаниями.
– Ты просто никогда до этого особо со мной не разговаривала. Неплохая перемена, а?
Саша скрестила руки на груди, не зная, злиться ей или соглашаться: – Ты сам никогда не хотел со мной говорить до этого? И чья эта была вина?
Мятежный лениво прошел по комнате, дав Грину время устроиться рядом с Сашей, дотронулся до книжного корешка на полке, он всегда забывал вовремя возвращать книги, и потом их искали всем Центром, только чтобы обнаружить в этой комнате: – Да ты же сама себя и вела так, будто мы все тебе враги номер один. Не очень хорошо решает задачу по разговорам.
– Да ты ни с кем, кроме Истомина, не разговаривал нормально в принципе! – Грин вмешался немедленно, как всегда очень четко, со всей присущей ему чуткостью ощущая, что этот разговор сворачивает не туда.
– Давайте согласимся с тем, что вы оба вели себя, как бараны. Сколько-то прилично вели себя только я и домовые. И Валли. Иногда. Когда переставала давить. Впрочем, вы ей выбора кроме как олицетворять жестокую руку закона не оставили.
Саша отозвалась недовольным фырчанием в районе его плеча, не желая соглашаться просто потому что она не желала соглашаться и была намерена стоять на своем до последнего. Опять же из вредности. Пальцы у Грина были как всегда невозможно теплые, когда он коснулся ее шеи. Саше казалось, что он делает это нарочно – чтобы ее отвлечь, что еще хуже, у него прекрасно получалось: – К чему вообще этот дурацкий разговор про краши? – она почти мурлыкала, вопреки собственному противоречивому настроению, Грин неторопливо разбирал ей волосы.
– Истомин, смотри-ка, ты нашел у нее кнопку «выкл», – Мятежный звучал насмешливо, но как-то исключительно миролюбиво, Саша приоткрыла один глаз, чтобы увидеть его, опирающегося на стол и совершенно расслабленного. Наблюдавшего за ними с выражением, которое она толком не могла разобрать. Но это точно было что-то хорошее.
Грин их не слушал, задумчиво провел пальцами у Саши за ухом: – Разговор про краши был не для того, чтобы тебя задеть, – она почувствовала усмешку в его голосе, но качаться на волнах его прикосновений и голоса было слишком приятно для того, чтобы пытаться повернуть голову и проверить: – Марк просто хотел сказать, что это то, на чем играет Иван. Помощникам хотелось жить. Агате – невероятной любви. Тебе – принятия. Твоя потребность быть.. В центре внимания. И нежелание быть в Центре. Это глупо звучит, но ты улавливаешь суть, правда? Он дал тебе это, и мог кормить этим еще долго. Потому что сам Иван.. Ну. Как мне показалось. Он тоже в этом нуждается. Только ты кормишься эмоциями в целом, а ему хорошо от того, когда ему в рот смотрят. Ну. Мне так показалось. В нашу первую встречу. Сколько же он тогда говорил..
Саша их первую встречу помнила очень хорошо. Безвоздушную комнату, пахнущую только солнцем и ладаном, пространство, будто залитое медом.
– Тебе не нужно пытаться помочь мне почувствовать себя лучше из-за ситуации с Иваном. Я все же не попалась. Правда? Все же не попалась. Это просто.. Отчасти то, о чем говорила Таня? Неважно, какие зверства он совершает, он все еще кажется.. Таня говорит красивым. А я скажу – знакомым. Я будто его чуточку понимаю. И может быть так работает его магия? Что он всем кажется каким-то.. Родным. Не знаю. Это отвратительно. Чувствуешь себя прилипшей мухой. И совершенно не знаешь, куда себя деть.
На несколько секунд в комнате повисла непривычная совершенно для помещения, в котором жил Мятежный, тишина. Саша усмехнулась себе под нос, повернула голову к хозяину комнаты: – Научишь меня драться? Едва ли это в глобальном смысле поможет против Ивана. Но во всяком случае я буду знать, как правильно дать ему в нос при встрече? Ну так, на всякий случай.
Мятежный легко оттолкнулся от стола, ни одного лишнего движения, как всегда. Только абсолютная эффективность. Он был намного выше ее, намного крепче ее, и Саше бы на самом деле устрашиться таких масштабов, но где-то внутри себя она наконец решилась.
Больше никто не застанет меня врасплох. Неважно, будет это армия мертвецов или одно обжигающее солнечное объятье.
– Поднимайся, в таком случае.
Саша уставилась на него огромными глазами, уверенность таяла на глазах, малодушно предлагая подождать с обучением хотя бы до завтра. Тающей уверенности было приказано заткнуться немедленно, Саша послушно поднялась на ноги, осторожно выпутавшись из объятий Грина. Последний наблюдал за ними с интересом, тоже по сути своей немного бесенок, всегда любопытный, безумно жадный до жизни. Самый человечный бесенок из всех, что Саша встречала. Мятежный и Саша, безусловно, были самыми живыми существами в этом помещении, и потому вниманием Грина владели безраздельно. Саше, впрочем, нравилось думать, что дело было не только в этом. Или совсем не в этом.
– Становись. Ну же, вспоминай. Валли обучала нас всех одинаково. Стойки ты знаешь. Ты, на самом деле, много знаешь. Просто поскольку большую часть своих тренировок ты провела, увиливая от этих самых тренировок, вспомнить будет непросто. Но тут уж, извини, Озерская. Сама виновата.
Саша недовольно на него посмотрела, не обещая взглядом ничего хорошего. Она честно слушалась, честно пыталась изобразить боевую стойку, но зубы показала все равно: – Ты так будешь болтать в процессе всего обучения?
– Моя болтовня идет бонусом, наслаждайся. У меня потрясающий голос, правда? – Саше хотелось его пнуть, вместо этого ему хватило одного крошечного движения, чтобы выбить ее из ее очень устойчивого положения. Как ей казалось. – Чудо, что мертвецы тебя не съели. Кто так стоит? Ты же танцевала раньше. Где равновесие?
– Это не то же самое, – Саша возражала хмуро, напряженно следя за Мятежным, она почти слышала скрип собственных извилин в голове, напряженно пытающихся впитать новую информацию. Под которую их изначально никто не пытался настроить. Саша чувствовала, что пробуксовывает. Еще больше она не любила, когда у нее что-то не получается.
– Ты удивишься, Озерская, но в сущности отличий не так уж много. Они есть, но тебе сейчас важна суть.
Рука легла ей на спину, ладонь у Мятежного была тяжелая, он привлек ее к себе еле заметно. Движение казалось более знакомым, все это с ней случалось когда-то давно, в прошлом, которое сейчас будто дразнилось из-за шторы. Он двигался плавно, медленно очень, давая ей возможность привыкнуть. К движению, к ритму, к его собственному телу. Последнее Саша знала хорошо, но момент почему-то все равно застал ее врасплох. Она хорошо знала его плечи – раньше, чем их коснулась. Она жалела, что не видит его бедра, узкие, выпирающие тазовые косточки, ей нравилось смотреть, как он двигается, несмотря на то, что Марк Мятежный – безупречная боевая машина – часто бывал по-настоящему страшен.
– Ты сейчас просто со мной танцуешь, ты знаешь?
Она почему-то говорила шепотом, смущалась громкости собственного голоса. Тянулась к нему до нелепого, и улыбка, расползавшаяся по лицу, казалась ей глупой. Саша любила танцевать. Одна или с кем-то. Быстро, медленно, исполняя реальные танцевальные номера перед жюри – в детстве она занималась в студии, или просто дергаясь без смысла. Саша обожала танцы всегда, они очищали разум, радовали ее до нелепого. Просто годы в Центре частично стерли эту привычку, танцевать было не с кем и некогда. Но привычку можно стереть, а любовь останется все равно.
Она тихонько смеялась Мятежному в грудь – до чего же он был высоким, он чуть сжал ее в руках: – Ты чего смеешься? Думаешь, в твоем зажатом состоянии от тебя можно было бы хоть чего-то добиться в обучении? Начнем завтра. А сегодня..
– А сегодня?
Уголки губ у него чуть скривились, будто ему было смешно, но он осознанно приглушил голос, будто тоже боялся разрушить момент: – А сегодня, Истомин, дай нам какую-нибудь музыку. Мы хотим танцевать. О том, чтобы вытащить сюда тебя тоже я даже не заикаюсь, – он обернулся к Саше, выражение лица убийственное совершенно, она сжалась просто на всякий случай, когда он заговорил голос звучал обманчиво ласково, и Саша поняла, что со своими смелыми заявлениями про «научишь меня» наконец-то доигралась. – А ты, Озерская. Если тебя не будет завтра в тренировочном зале в восемь утра..
– ВОСЕМЬ? Утра?? Да ты сам в жизни не встанешь в восемь утра! – Саша была избалована. И прекрасно об этом осведомлена. До пятнадцати лет ее нещадно баловали родители. После пятнадцати лет пыталась не баловать Валли. После случились мальчики – тоже пытались ее не баловать, и тоже провалились, некоторые – Мятежный, не сразу. Так или иначе, при мыслях о подъеме в восемь утра ей хотелось упасть лицом в подушку уже сейчас.
– Ты меня услышала. Восемь утра. Грин, где там музыка, она сейчас сбежит? И давай что-нибудь пободрее, не слишком траурное, ладно?
– Когда я слушал траурную музыку?? – отозвался с кровати взъерошенный Грин, давно успевший развалиться во всю длину, больше напоминающий кота. Коты Центра наблюдались там же, рядом с ним. Ни при каких других обстоятельствах они в комнату Мятежного войти и не подумали бы. Но Грин. Точка.
Грин наконец разобрался с телефоном, звук наполнил комнату, Саша, собравшаяся было упасть рядом с Грином в подушки, поспешно передумала, едва услышав музыку.
Это давно забытый островок покоя. Мир, где всегда тепло. Запах полов в танцевальной студии, куда меня водила мама. В детстве крепко держала за руку. После студия поменялась, поменялась обстановка. Но средство, которым мыли полы, осталось. Остались зеркала. Осталось воспоминание о маме, которая приходила на отчетные выступления и всегда спрашивала, как все прошло.
Если я вспомню.. Если я очень постараюсь.
«Как прошла тренировка, моя птичка?»
Голос мамы теперь похож на мой. С каждым годом все больше. Если бы был номер, по которому можно ей позвонить – возможно, нас бы перепутали.
Я ничего в жизни не любила с такой силой, как танцевать. Высокие потолки, открытые пространства комнат, измученные к концу тренировки разгоряченные лица. Внимание.
И музыка, музыка, музыка. Чьи-то руки. Как я ругалась со своим партнером. Он в самом деле был таким идиотом, или я была к нему несправедлива?
Совсем другая жизнь. Будто больше и не моя вовсе.
Выбор был сделан в пользу музыки, в пользу движения – всегда в их пользу. И в пользу Мятежного, Саша потянула его еще ближе, пока они не соприкоснулись: – Восемь утра. Поняла. Чудо, если тебе удастся меня чему-то научить в моем утреннем настроении. Я кто угодно, но не жаворонок.
Мятежный сверкнул на нее зубами – по зубам немедленно захотелось двинуть, чисто ради того, чтобы стереть отвратительно самодовольное выражение с лица. Мятежный, кажется, в успехе своей операции – всех своих операций, был уверен: – А ты проверь. Я нереально талантлив в роли преподавателя. Перестань кроить недовольную морду, – он вел легко, уверенно совсем, будто учился танцевать – не учился, Саша знала хорошо. Мятежный не делал ничего выдающегося, движения простые совсем, но от уверенности, от хорошего владения телом выглядел он замечательно, – Будешь хорошо себя вести – дам тебе пощупать свой пресс.
– Правда?! – Саша отозвалась немедленно, а после захотела шумно постучаться головой о что-нибудь крепче подушки. Ей нравилось. Ей нравилось на секунду расслабиться. Быть глупой, и читаемой, и нелепой, какой угодно. Отпустить смертельную сосредоточенность, нарастающее чувство опасности. Но взорвалась она просто на всякий случай – взрываться, шуметь, пихать его в грудь несильно, чтобы ни в коем случае не отошел – это все живое. Это простое. И это от жизни. Суетливое и глупое, но дышащее: – Эй! Кто тебе сказал, что я вообще хочу трогать твой пресс? И что мне нужно на это разрешение? Если ты собрался мне талоны на потрогать что-нибудь выдавать, то в эту игру могут играть двое.
Их прервал раскатистый смех с кровати, Грин все еще лежал на спине, смех взлетал под потолок, расползался по комнате и был жуткой заразой, невозможно было удержаться и не последовать за ним. Каждый раз, как Саша его слышала, она понимала, что смех – это только о жизни. Почему смехом прогоняли смерть. Каждый раз верила, что пока этот удивительный, сотканный из самого разного пламени мальчик смеется, он не умрет. Не по-настоящему.
– Какие же вы дураки, господи. Какие же дураки, – он смеялся искренне, заразительно, он смеялся так, что мог бы увести за собой кого угодно. В страну, где все легко. И все живы.
Мятежный воспользовался паузой, закружил Сашу, поднял под самый потолок, заставив визжать от восторга, как довольную сверх меры трехлетку. Трехлетку, которая, впрочем, точно знала, что ее ни за что не уронят. Ей нравилось крошечное комнатное ощущение полета – будто вернуться домой. И откуда ей знать о полете хоть что-то? Она смеялась бесконтрольно, успела крикнуть: «Не отпускай!» и все же немедленно угодила обратно Мятежному в руки. Саша дышала чуть неровно, прижималась щекой к его груди.
Грин все еще наблюдал за ними, взгляд изменился, стал будто мягче. И кто-то будто включил в нем подсветку, сотни маленьких огоньков, что жили под кожей.
– Впрочем, вы самые красивые дураки, что я видел.
– Но ты ведь любишь этих дураков, правда?
Мятежный рядом был сплошным внушительным присутствием, обнимал ее крепче, и Саша знала четко – он тоже слушает. Они оба оставались настроенными на частоту Грина Истомина при любом раскладе, что бы ни случилось. Ели бы у него с рук, носили бы тапочки, притворились одним бестолковым псом и одной крайне капризной кошкой. Что угодно. Что угодно. Скажи только слово.
Грин повел тонкими плечами, Саша молча отметила, как рубашка на нем была будто еще свободнее, но он улыбался, он улыбался так, что мог сейчас зажечь все звезды во Вселенной.
– О, эти дураки – две величайшие любови моей жизни. Мне кажется, я застрял с ними надолго.
Саша потянула Мятежного за руку, по направлению к кровати, не могла спрятать улыбки тоже: – О, с этими дураками ты застрял до последнего. Бедный, бедный Гриша. Как тебе с нами будет тяжело, – они повалились рядом, вызвав недовольные «мяу!» со стороны отдыхающих коловерш. Саша уткнулась носом куда-то Грину в шею, жмурилась довольно. – И как тебе с нами будет хорошо. Ты увидишь.
Она любила это ощущение, его длинные пальцы в волосах, Мятежный прижимающейся к спине, рука переброшена через нее небрежно, она скорее ощущала, чем видела, как пальцами он коротко пробегается Грину по животу. Никто из них, включая самого Грина, был не обучен быть нежным. Но отчаянно хотел. И так же отчаянно пытался.
Саша чуть приподнялась, заглядывая Грину в глаза: – Знаешь, что мы сейчас делаем?
– Ммм?.. – он почти урчал, по-кошачьи подставляясь под руку Мятежного, Саше было смешно и замечательно, и в этот момент она обожала каждый сантиметр этого тонкого, созданного из всего тепла, всего огня в мире мальчишки.
– Мы создаем еще один момент.
Глаза Грина распахнулись, он будто хотел что-то сказать, протянул к ней руку, может быть, ему не нужно было говорить ничего вовсе, Саша считала все, что нужно было считать, по одному его выражению.
В комнате раздался оглушительный хлопок, видимо, в этот раз кто-то снизошел до милости предупредить их о своем появлении. У двери стоял Огонь. Домовой Центра отчего-то был мрачен, хмурил брови, и нервно теребил густую бороду.
– Второй раз за один день, Огонь! Ну есть в тебе милосердие? – в сердцах воскликнула Саша, вызвав на лицах Мятежного и Грина выражение тотального недоумения. Точно.. Огня-то они утром и не видели.
– Вы нужны Валентине внизу. Прямо сейчас.
Что-то в его тоне, в том, как он стремительно исчез сразу после, заставило всех троих молча переглянуться. Так же молча подняться. Торопливо поправить одежду. Все будто на автопилоте. И без единого промедления выйти из комнаты.
***
Внизу, в дорогом, совершенно не рассчитанном на наступающую в городе над Волгой зиму песочного цвета пальто. Совершенная каждая сантиметром. От безупречных блестящих волос до матовой нюдового цвета помады. С крайне решительным выражением лица. Отбивая ногой нетерпеливую, раздраженную дробь. Стояла Вера Воронич.
На появление Мятежного, Озерской и Истомина она отреагировала мрачным, брошенным сквозь зубы: – Мне почти пришлось ждать.
– Вера, свет мой, видимо очередное заклятье ударило тебя по голове слишком сильно, – отозвался Мятежный обманчиво ленивым тоном, Саша чувствовала это в его нехорошо сверкнувших глазах, в том, как рука, до этого лежавшая у нее на спине, исчезла, он будто готов был броситься, – И теперь ты забываешься. Но мы у себя дома, куда ты вломилась практически ночью. Так что позволь перефразировать. Но мы
тебя не ждали.
Валли сделала шаг между ними, поза не менее напряженная, Саша отметила это с нарастающим удивлением, Валли была готова к нападению тоже. Атаковать? Отбивать атаки? Защищать их? Что угодно. Валли, пожалуй, была единственным человеком, который был лучше Веры. Мятежный прочно шел с ней на равных.
– Вера требует выдать подозреваемую. В убийстве Яги. Имея в виду Татьяну.
Саша собственное глухое рычание услышала будто со стороны, скорее почувствовала, как разомкнулись губы, демонстрируя весь набор зубов. Саша лучшей не была. Всего лишь бесстрашной. И этого было достаточно. На сегодня. И, возможно, навсегда.
Маленькая золотая запятая, грозная в своем отчаянном бесстрашии, каждый раз, когда дело касалось тех, кого ей хотелось защитить. Готовая броситься. Готовая к прыжку.
– А больше Вера ничего не хочет?