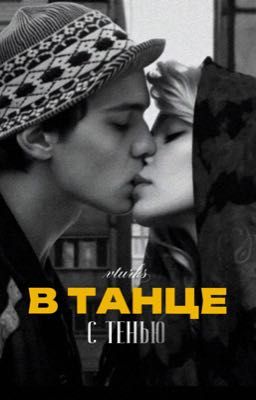19. Адрес
Девушка оглядывала всех вокруг. Глаза расфокусированно метались от одного лица к другому, пытаясь зацепиться за что-то знакомое, реальное. Лица были словно маски — напуганные, растерянные, осунувшиеся. В их взглядах читались беспомощность и невысказанный ужас.
Словно из глубины колодца, снова вырвался ее хриплый, надломленный шепот.
— Лучше бы я... никогда не приезжала.
Внезапно, острая, жгучая боль пронзила ногу, которую Наташа все еще осторожно фиксировала. Из груди Вики вырвался дикий, нечеловеческий вой, полный боли, отчаяния и чистой, неистовой злобы. Она дернулась, почти сбивая руки Наташи, и ее взгляд, до этого отстраненный, налился яростью. Яростью, направленной не на Наташу, не на парней, не на Катьку. Она впилась взглядом в свои окровавленные, изувеченные ноги, в ссадины на руках, в багровые пятна на коже, что проступали сквозь тонкое белье. И эта ярость была направлена не на них, не на тех, кто причинил ей боль. Она горела внутри, пожирая ее саму.
«Зачем? Зачем я здесь? Могла же уехать! Почему я осталась?!»
Парни, словно очнувшись, заговорили вразнобой, слова путались, превращаясь в неразборчивый гул.
— Красивая, как ты?
— Тебе сильно больно?
— Что еще они сделали, скажи?
— Мы... мы им отомстим!
Катя, видя, как блондинка закипает, как ее лицо искажается от боли и отчаяния, не выдержала.
— Вон! — закричала она, ее голос дрожал, но был полон решимости. — Все вон! Немедленно! Ей нужен воздух. И тишина!
Марат, Зима, даже Наташа, которая хоть и была нужна, но поняла, что сейчас важнее дать Вике пространство, поднялись. Валера и Костя, обычно упрямые и своенравные, встретили ее взгляд – твердый, непреклонный, и поняли. Сейчас не время для геройства и ненужных слов.
— Пошли! — буркнул Зима, подталкивая Марата к выходу.
Парни не стали сопротивляться. В эту минуту Катя была их голосом разума. Они начали медленно уходить, оставляя за собой напряженную тишину и давящую атмосферу.
Турбо шел последним, не отрывая взгляда от своей Красивой. Ее глаза, еще минуту назад пылавшие яростью, теперь казались стеклянными, пустыми. Он чувствовал, как его собственное сердце сжимается от боли и отчаяния. Она не вынесет. И это только начало. Она не вынесет и этого. А ведь она даже не знает. Не знает, что он убил человека. Убил своими руками. Ради нее. Чтобы эти ублюдки больше никогда не смели даже смотреть в ее сторону. Этот груз давил на него, душил, но он был готов нести его вечно, лишь бы она была в безопасности. Лишь бы она больше не чувствовала эту боль.
Блондинка осталась одна, окруженная этой гнетущей тишиной. Наташа вернулась, и тихонько продолжала перевязывать ее раны. Тишина давила. И в этой тишине поднималась волна беспощадных воспоминаний и сожалений. Она понимала. Горько, до одури, понимала. Она сама выбрала этот путь. Сама осталась, когда могла уехать с родителями, подальше от этой грязи, от этого города, от этих «пацанов». Сама позволила себе влюбиться в Валеру, который, как оказалось, был совсем не таким, каким она его представляла. Он был частью этого мира, который так жестоко обошелся с ней сегодня.
Что теперь? Куда бежать от себя? От этой боли? От этого города, который оказался такой ловушкой? Она уже не знала, что делать.
Наташа закончила перевязку, аккуратно убрала окровавленные бинты и вату. Ее лицо было серьезным, но она не произнесла ни слова, лишь мягко погладила Вику по плечу. Затем, беззвучно, словно тень, удалилась в кухню, оставляя двух подруг наедине с тяжестью их общего горя.
В комнате повисла оглушительная тишина, прерываемая лишь прерывистым дыханием Вики. Катя села на край дивана, рядом с Викой, осторожно взяла ее холодную руку. Она не знала, что сказать, как начать. Любые слова казались бессмысленными, пустыми.
— Кать... — Голос Вики был чуть громче шепота, надтреснутый, но теперь лишенный прежней ярости. В нем была лишь глубокая, всепоглощающая усталость. — Я так больше не могу.
Слезы, которых она так долго не позволяла себе, наконец, навернулись на глаза, стекая по вискам, пропадая в волосах. Это были не слезы боли от ран, а слезы отчаяния от понимания того, что ее жизнь необратимо изменилась.
— Что «не можешь», балерин? — Катя сжала ее руку, пытаясь передать хоть толику своей силы.
— Жить так, Кать. В этом... — Вика сделала паузу, подбирая слово, которое вместило бы в себя весь тот ужас, что она пережила. — В этом постоянном страхе. В этой грязи. Каждый день ждать, что что-то случится. Что кто-то придет. Что меня опять... — Ее голос дрогнул, она не смогла закончить фразу.
Катя понимала. Она сама жила в этом мире, где опасность была частью каждого дня. Но Вика была другой. Она пришла из другого мира, чистого, светлого.
— Я... я люблю его, Кать. — Вика закрыла глаза, ее ресницы намокли от слез. — Валеру. Люблю так, что сердце рвется. Но... — Она замолчала, словно собираясь с силами, чтобы произнести самую страшную правду. — Разве... разве жизнь стоит любви? Разве моя жизнь стоит того, чтобы вот так... дрожать от каждого шороха? Чтобы видеть это... все это?
Катя обняла ее, прижимая к себе. Она чувствовала, как хрупкое тело Вики дрожит. Что она могла ответить? Она тоже не знала. Она тоже задавала себе этот вопрос.
Вика отстранилась, ее взгляд медленно опустился на перевязанную ногу. Огромная, объемная повязка скрывала часть голени, но она знала, что там, под ней, сломанная кость, рваные раны. Руки, все еще в ссадинах и царапинах. В ее голове всплыла картинка – пуанты, блеск рампы, легкость шага, музыка, заполняющая все существо. То, ради чего она жила. То, ради чего терпела боль в ногах, мозоли, изнурительные тренировки. Балет.
Понимание, острое, как лезвие, пронзило ее насквозь. Немой крик застрял в горле. Все закончилось. Вот так, в один миг. Ее мечта, ее будущее, ее вся жизнь – перечеркнуты. Из-за этой улицы, из-за этой любви, которая теперь казалась проклятием.
Она прикоснулась к повязке на ноге, и этот жест был полон невыносимой, всеобъемлющей боли. Боли, которая была сильнее физической.
— Балет, — прошептала она, и в этом слове было столько отчаяния, столько утраты, что Катя вздрогнула. — Мне... мне больше не видать балета.
***
Дни сменяли друг друга, сливаясь в недели, а затем и в месяцы. Для Вики время потеряло свой привычный ход, превратившись в тягучую, серую массу. Она заперлась в четырех стенах, словно в крепости, из которой не было выхода. В ее квартиру, помимо Наташи, которая продолжала приходить для перевязок, она не впускала никого, кроме Кости и Кати. Это было жестоко. Она знала это. Знала, как Турбо, как Марат, как Зима пытались пробиться, звонили, стояли под дверью. Но она не могла. Каждый их стук в дверь, каждый звонок телефона, каждый шорох за стеной отзывался в ней паническим страхом. Страхом не только перед внешним миром, но и страхом перед ними самими — перед тем, что они олицетворяли, перед напоминанием о той жизни, от которой она так отчаянно пыталась отгородиться. Валера, ее Валера, оказался частью того мира, который ее сломал. Его любовь, его забота — все это было неотделимо от того ужаса, который она пережила. Она любила его, любила до сих пор, но эта любовь теперь ощущалась как тяжелый, окровавленный груз, который не давал ей дышать.
Ее нога заживала медленно, мучительно. Перелом был серьезным, и каждый шаг, каждый неосторожный поворот причинял боль. Балет.. Мысль о нем теперь вызывала лишь фантомную боль в ногах и щемящую тоску. Эта мечта, казалось, была похоронена под обломками ее прежней жизни.
В один из таких дней, когда солнце едва пробивалось сквозь тучи, Вика сидела на кухне с Костей, потягивая чай из любимой кружки. Тишина была привычной, но сегодня она не давила, а скорее обволакивала, создавая ощущение интимности.
— Кость... — Вика начала тихо, ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, за окно. — Я... Я хочу уехать.
Костя замер с кружкой у губ, медленно поставил ее на стол. Он смотрел на нее, на ее похудевшее, но теперь более решительное лицо. В ее глазах, раньше таких живых и озорных, горел новый, холодный огонек – огонек решимости и усталости.
—В Москву, — продолжила она, словно проговаривая про себя давно выношенное решение. — Там... Там мне досталась квартира от бабушки. Большая. Я... Я построю новую жизнь. Без всего этого. Без... — Она махнула рукой, обводя невидимый круг вокруг себя, вокруг их города, вокруг всей этой пацанской вселенной. — Отучусь на адвоката. Я смогу.
Ее голос окреп с каждым словом, будто сбрасывая с себя оковы сомнений.
— Надо жить. Понимаешь? Просто... Надо жить. Другой жизнью.
Костя смотрел на нее, и в его груди поднималась смесь грусти и гордости. Он понимал. Понимал, что так будет лучше. Для нее. Единственный способ выбраться из этого болота — вырвать себя с корнем, даже если это будет невыносимо больно. Он представлял ее там, в большой Москве, среди книг, судов, подальше от улиц, от боли, от них. И это казалось единственно верным решением.
Они долго обсуждали это, детали переезда, документы. Костя кивал, слушал, задавал вопросы. Но его мысли постоянно возвращались к ее ноге. Он бросал тревожные взгляды на повязку. Перелом еще не зажил до конца. Она могла никогда не ходить так, как раньше. Ему было страшно за нее, за ее будущее, за то, как она будет справляться с этим в одиночестве, в чужом городе.
Но в ее глазах горела такая решимость, что он понимал — она выдержит. Она выстоит. Это был ее выбор, ее путь к спасению. Костя сделал глубокий вдох, ощущая на языке горький привкус смирения. Он должен был ее отпустить. Должен был помочь ей начать эту новую жизнь. Он смирился. Ради нее.
Спустя еще один месяц, полный бессонных ночей, тихих перевязок и молчаливых раздумий, Вика собрала все свои вещи. Их было немного — пару чемоданов, да небольшой рюкзак, но каждый предмет ощущался тяжелым, словно наполненный невидимым грузом воспоминаний. Квартира казалась опустевшей, лишенной тепла, ставшего ей чужим.
В день отъезда, когда последние лучи угасающего осеннего солнца пробивались сквозь пыльные окна, пришла Катя. Ее лицо было бледным, глаза покрасневшими от недосыпа, но в них горела поддержка и понимание. Она обняла Вику крепко, впитывая последние мгновения близости.
— Я... я уезжаю, Кать, — голос Вики дрогнул, но она справилась. — В Москву. Вот адрес, — она протянула Кате небольшой листок бумаги с аккуратно выведенными буквами. — Если что... Приезжай. Обещаю, я буду ждать.
Катя кивнула, слезы уже текли по ее щекам. Она понимала. В глубине души, она знала, что для блондинки так будет лучше. Что хотя бы одна из них сможет вырваться из этого порочного круга, из этой бездонной ямы, в которую затягивала улица. Она не могла представить свою жизнь без Вики, но отпускала ее с легким сердцем — не из-за равнодушия, а из-за бесконечной любви и надежды на ее спасение.
— Это... это для Валеры, — Вика протянула рыжей запечатанный конверт. Ее пальцы дрожали. — Передай ему. Пожалуйста.
Катя бережно взяла письмо, не задавая вопросов. Это было прощание, не требующее слов. Затем Вика обернулась к Косте, который стоял чуть в стороне, хмурый и молчаливый.
— А это... для Марата, — она протянула ему второй конверт, поменьше.
Костя взял его, его взгляд встретился со взглядом сестры. Он видел в ее глазах и боль, и решимость, и какую-то новую, жуткую пустоту. Ему было больно, но он знал – это было единственное правильное решение.
На вокзале царила суета. Гудки паровозов, объявления диктора, голоса людей, спешащих по своим делам – все это сливалось в единый, оглушающий шум. Костя и Катя провожали ее до вагона. Атмосфера была наэлектризована невысказанными эмоциями, тяжестью прощания.
Когда проводница объявила посадку, Костя шагнул вперед, положив руки ей на плечи. Его лицо было серьезным, глаза глубокими и полными нежности, которую он редко проявлял.
— Принцесса, — начал он, его голос был непривычно мягким, но твердым. — Слушай меня внимательно. Ты... Ты сильная. Всегда была. Просто иногда забывала об этом. То, что случилось, это... Это не сломает тебя. Не дай этому сломать себя. Ты выбрала правильный путь. Слышишь? Правильный. Не оглядывайся. Не жалей. То, что было здесь, пусть останется здесь. Это наш мир. А у тебя теперь будет свой. Чистый. Светлый.
Он сделал короткую паузу, глубоко вздохнув.
— Учись. Строй свою жизнь. Забудь все плохое. Запомни только хорошее, если оно было. А если нет... Создай его сама. Заново. И не бойся. Никого. И никогда. Потому что ты больше не одна. У тебя всегда буду я. И Катя. И если что... Если будет тяжело... ты звони. Мы... мы всегда будем рядом. Даже если далеко. Живи, Вика. Просто живи. За нас всех.
Он обнял ее крепко, прижимая к себе, словно пытаясь передать ей всю свою силу, всю свою любовь. Катя, стоящая рядом, не выдержала и тоже прижалась к ним. Это было прощание с частью их жизни, с иллюзиями, с невинностью, которая была безвозвратно потеряна на улицах этого города.
Вика кивнула, не в силах произнести ни слова. Она отстранилась от объятий, ее губы дрожали. С последним взглядом на лица брата и подруги, она поднялась по ступенькам вагона.
Поезд тронулся медленно, набирая ход. Через запотевшее окно она видела, как удаляются их силуэты, становятся все меньше, пока не растворяются в сумерках. По щеке скользнула одинокая слеза, горячая и жгучая. Она думала. Думала о нем. О Валере. О той любви, что осталась здесь, в этом городе, и которая, несмотря ни на что, продолжала кровоточить в ее сердце. Она уезжала, но часть ее навсегда оставалась там.
***
Дни после той ночи слились для Турбо в одно сплошное мучительное ожидание. Он не спал толком, почти не ел, лишь курсировал между базой и домом блондинки, словно привязанный невидимой цепью. Каждый отказ, каждый немой ответ двери, каждый перехваченный Кащеем взгляд – вбивал в него новый гвоздь. Беспокойство сводило его с ума, смешиваясь с гнетущим чувством вины и собственной беспомощности.
Он пытался пробиться к ней, снова и снова. Сначала просил Костю передать, потом сам стучал в дверь, стоял под окнами часами, надеясь увидеть хотя бы тень в проеме. Звонил по телефону в соседней будке, но трубку никто не брал. Турбо срывался на всех. Рычал на Зиму, огрызался на Марата, который пытался его успокоить. Он не мог понять, почему она его не пускает. Почему не хочет его видеть. Он ведь все это делал ради нее. Он убил того человека. Ради ее безопасности. А теперь она его избегает? Это было невыносимо.
В один из холодных, промозглых вечеров, когда парень сидел на базе, нервно потирая лицо, в дверях появилась Катя. Лицо ее было осунувшимся, глаза – красными от слез, но решительными. В ее руке был белый конверт. Она не произнесла ни слова, просто подошла к брату и молча протянула ему письмо.
Валера взял его, словно обожженный. Сердце подскочило к горлу, предчувствие чего-то нестерпимого кольнуло под ребрами.
— Что.. Что это, Катя?! — зарычал он, сжимая конверт в потной ладони. — Что ты знаешь?! Почему ты мне не сказала?!
Катя не отступила, ее голос был тверд, хоть и дрожал от пережитых эмоций.
— Потому что ей так лучше, Валера! — Она сделала шаг ближе, ее взгляд был полон боли и упрека. — Потому что она не может так жить! Она не хочет жить в этом страхе! В этой опасности! Ты понимаешь, что произошло?! Ты видел ее?!
Слова Кати били как пощечины.
— Ей не светит балет, Валера! Понимаешь?! Она больше никогда не будет танцевать! Она... Она почти мертва внутри! Из-за вас! Из-за этой улицы! Она любила вас всех! Но теперь боится этой жизни, которую вы ей дали!
Ее голос сорвался на крик. Турбо отшатнулся, словно его ударили. В глазах Кати не было злости, только безмерная печаль и отчаяние. Она развернулась и, не дожидаясь ответа, выскочила из дома, оставив Валеру одного в оглушительной тишине, с дрожащим конвертом в руках.
Он остался один. В комнате было пусто, но казалось, воздух был наэлектризован ее криками. Пальцы не слушались, едва разорвал бумагу, на которой был знакомый, аккуратный почерк Красивой.
Письмо было большим, исписанным с обеих сторон. Он начал читать, и каждое слово, словно нож, впивалось ему в сердце. Она писала о той ночи, о боли, о страхе, но без упрека. С любовью, с нежностью, которая проникала сквозь строки, отзываясь в нем жгучей болью. На письме были видны разводы — она плакала, когда писала. Писала о том, как любит его, как это было самой яркой, самой настоящей частью ее жизни. Но и о том, как эта любовь привела ее туда, откуда она не могла выбраться. Она писала о балете, о том, что ее мечта умерла, а вместе с ней – часть ее самой. Что ноги больше не будут прежними, что ее жизнь, которую она строила с детства, разрушена.
В конце письма, дрожащим, но твердым почерком, было сказано:
«Валера, я уезжаю. В Москву. Прошу тебя, не ищи меня. Никогда. Это будет больно, я знаю, но так будет лучше для нас обоих. Прощай, мой милый. Прости меня. И живи. Просто живи».
Письмо выскользнуло из онемевших пальцев и упало на грязный пол. Валера со всей силы ударил кулаком по стене. Костяшки хрустнули, но боли он не чувствовал. Он лишь медленно, тяжело опустился по стене, пока не осел на пол, сжав колени. Его трясло. Ненависть к себе, к этому миру, к судьбе, которая так жестоко отобрала у него все, захлестнула его с головой. Он пытался быть для нее защитником, героем, а стал причиной ее сломленной жизни.
Из груди вырвался глухой, надрывный стон – не крик, а нечто более страшное, звук раненого зверя. Он сидел там, на полу, сжимавший кулаки до побеления костяшек, глядя в пустоту. И впервые за долгое время, по его щекам потекли слезы – горькие, бессильные слезы от потери, которую он сам же и причинил.
На следующий день, ближе к вечеру, когда Турбо уже погрузился в безмолвный, страшный оцепенение, Кащей нашел Марата одного в каморке, где царила гнетущая тишина. Марат сидел на старом, скрипучем стуле, тупо глядя в стену, словно ожидая чего-то, что должно было случиться, но никак не наступало.
Костя подошел к нему, в руке держал аккуратный, но чуть помятый конверт. Его лицо было уставшим, глаза — отстраненными, но в них читалась какая-то глубокая, взрослая печаль.
— Это тебе, — глухо произнес Костя, протягивая письмо. — От Вики.
Марат, до этого тупо смотревший в стену, вздрогнул. Конверт в руке Кащея показался чем-то нереальным, вестником из другого мира, который, как ему казалось, уже закрыл свои двери. Он медленно, почти благоговейно, вскрыл конверт. Внутри лежал исписанный лист бумаги, с знакомым, аккуратным почерком Тори, его Тори.
Он начал читать. Слова выстраивались в предложения, каждое из которых пронзало его насквозь, как осколок льда.
Вика писала о благодарности за его поддержку, за то, что он всегда был рядом. Она вспоминала их общие моменты – неловкие разговоры, редкие улыбки, их первую встречу. Но затем тон письма менялся. Она писала о боли, которую причинила ей эта "их" жизнь, жизнь на улице. О том, как она больше не может дышать этим воздухом, наполненным страхом и жестокостью. Она не обвиняла его напрямую, но каждое слово было пропитано горечью ее личного опыта, ее сломленной мечты.
«Марат, я уезжаю. Я не могу больше здесь оставаться. Эта улица... Она забирает слишком много. Она забрала у меня все, что было дорого, даже то, ради чего я жила. Мой балет... его больше нет. Мои ноги не будут прежними. И я не смогу дышать, если останусь здесь. Я знаю, тебе это, наверное, больно слышать, но... Я должна спастись. Я должна жить. Другой жизнью, далеко отсюда.»
Дальше она писала о своих планах, о Москве, о желании учиться на адвоката — строить что-то новое, чистое, без крови и страха. И в самом конце — короткая, но важная просьба:
«Пожалуйста, береги себя, Марат. Не дай этой улице себя сожрать. Она опасна. Найди свой путь. И помни, что есть другая жизнь. Не такая, как здесь. Прощай.»
Глаза Марата потемнели, в них отразилась смесь глубокой печали и горького понимания. Слова Вики были эхом его собственных, невысказанных сомнений. Он держал письмо, и оно словно прожигало ему ладонь. Не было ни гнева, ни отчаяния, как у Валеры. Была лишь тихая, давящая тоска.
Вика уехала. Она сбежала. И ее слова были не упреком, а предостережением, прозвучавшим так ясно и четко, что перевернуло что-то внутри Марата. Она, которая была чистой и далекой от этого мира, пострадала от него так, что вынуждена была отрезать все связи. Письмо стало последним гвоздем в крышку гроба его наивности, в иллюзию, что на улице есть своя правда и справедливость. Он сжал письмо в руке, мятая бумага шуршала.
уехала. Она выбралась. И теперь он должен решить, что делать со своей жизнью. Оставаться здесь, или, как она, найти в себе силы и попытаться уйти? Он не знал ответа, но семя сомнения, посеянное ею, начало пускать глубокие корни.
Москва. 1993 год.
Едкий запах старой бумаги и полироли для мебели щекотал ноздри. Высокие потолки и длинные, кажущиеся бесконечными, коридоры одного из респектабельных московских зданий отражали каждый звук, каждый шаг. Девушка шла по такому коридору — уверенно, размеренно, словно отмеряя каждый свой шаг. В руке она несла тонкую, но аккуратно подшитую папку. Только что она закрыла дело — дело одного молодого парня, которого обвиняли в мелком хулиганстве, но которому светил гораздо более серьезный срок из-за "покровителей". Она вытащила его, виртуозно использовав лазейки в еще сыром российском законодательстве и свои острые, как бритва, доводы.
Ее светлые волосы были идеально прямыми, уложенными в строгий, но элегантный пучок, ни единый локон не выбивался. Черный костюм, безупречно сшитый по фигуре, сидел ровно, подчеркивая стройность, но скрывая хрупкость. А зеленые глаза, когда-то полные наивной веры и потом – животного страха, теперь смотрели прямо, проницательно, словно проникая в самую душу собеседника. В них читались интеллект, сталь и опыт, который не купишь ни за какие деньги. Эта девушка была на своем месте.
Из-за угла показался мужчина. Он был высок, широкоплеч, одет в дорогой, но неброский костюм. В его облике не было ничего кричащего, но всем своим видом он излучал власть – тихую, уверенную, ощутимую. Он приблизился, его шаги были бесшумны.
— Виктория Алексеевна, если не ошибаюсь? — произнес он, его голос был низким и бархатистым, с легким, едва уловимым московским акцентом. — Олег Борисович.
Блондинка остановилась, кивнула. Ее взгляд, ни на секунду не отведенный, скользнул по его лицу, отмечая каждую деталь: жесткий подбородок, внимательные глаза, легкую, почти незаметную ухмылку в уголках губ.
— Блестяще, — продолжил он, словно читал ее мысли. — Я наблюдал за вашим выступлением. Дело по Зотовым... Неожиданно и эффективно. Вы буквально вырвали этого парнишку из лап прокуратуры, когда, казалось, все уже было решено.
— Благодарю, Олег Борисович, — спокойно ответила Вика, ее голос был ровным, без тени эмоций. — Я лишь делала свою работу.
Олег Борисович усмехнулся.
— Ваша «работа», Виктория Алексеевна, стоит очень дорого. И ваш талант... Он достоин более серьезного применения.
Он сделал небольшую паузу, давая своим словам повиснуть в воздухе.
— Моя организация, «Солнечные» – вы, вероятно, слышали... Мы расширяемся. Нужны не только крепкие руки, но и, что не менее важно, умные головы. Такие, как ваша. Я предлагаю вам сотрудничество. Работу. Не разовое дело, а постоянное партнерство. На наших условиях, разумеется. И с достойной оплатой. Очень достойной.
Название, знакомое ей еще из сводок новостей и негласных разговоров, а главное – из другого, куда более жестокого мира, мира улиц и чужих правил, мира, от которого она бежала, отзывалось легким холодком где-то глубоко внутри. «Солнечные».. Одна из самых крупных и влиятельных ОПГ Москвы. Это был риск. Огромный. Но... Разве вся ее жизнь теперь не была постоянным лавированием между рисками? Разве она не выжила, прошла сквозь такое, что многих бы сломало?
В ее зеленых глазах не было ни тени страха, лишь холодный расчет и едва уловимая искра азарта. Она обдумала предложение за считанные секунды. Ввязаться в это – значило снова окунуться в теневой мир, но теперь уже на других условиях. Не жертвой, не пешкой. А игроком.
— Хорошо. Я принимаю ваше предложение, Олег Борисович. Обсудим детали, когда вам будет удобно. Но.. Договор будет так же и на моих условиях.
Олег Борисович протянул руку. Его ладонь была широкой и крепкой.
— Великолепно, Виктория Алексеевна. Уверен, мы быстро найдем общий язык. Мой секретарь свяжется с вами завтра утром, чтобы назначить встречу.
Их рукопожатие было твердым, без лишних эмоций, но в нем чувствовался взаимный, почти хищный, интерес.
— Кощеева.. — произнес Олег Борисович, его губы растянулись в едва заметной, удовлетворенной улыбке. — С вами будет приятно иметь дело. Очень приятно.
Виктория лишь едва заметно кивнула, позволяя краешку губ тронуть еле заметная, чуть хищная улыбка. Ее путь из провинциальной грязи и отчаяния в московские коридоры власти, пусть и теневой, был завершен. Или только начинался. И в этот раз, она была готова ко всему.
Мой тгк: Втуркси
Делитесь своими эмоциями от прочтения!
И не забывайте ставить звездочки
🌟🌟🌟