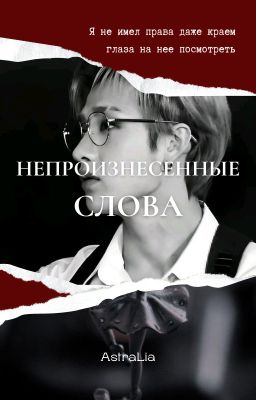Глава 5. Зеркало чужой боли
Бан Чан вошел в палату 314 в семь утра, до начала обходов. В руках он держал небольшую черную колонку. Он не сказал «доброе утро». Не спросил, как она спала. Он просто поставил устройство на тумбочку, отодвинув в сторону графин с водой, и нажал кнопку.
Зазвучал Дебюсси — «Лунный свет». Нейтрально, безопасно, ничего личного.
Юна сидела в своей обычной позе, отвернувшись к окну, где над больничной крышей поднималось бледное осеннее солнце. Ее пальцы лежали неподвижно на шершавом больничном одеяле. Бан Чан отступил в угол, к своему стулу, и сел, сложив руки на коленях. Он смотрел на ее спину, на контур плеча под тонкой хлопковой тканью больничной рубашки. Ничего.
Музыка лилась мягкими, текучими волнами, заполняя тишину палаты. Пять минут. Десять. Ни одного движения. Он встал, щелкнул кнопкой, и тишина вернулась, став вдруг густой и тяжелой. Он вышел, не оглядываясь.
На следующий день он поставил Чайковского. Отрывок из «Лебединого озера». Не тот, что играл в соседней палате, а другой — из сцены у озера.
Ее плечи напряглись почти сразу, как будто по ним пропустили электрический ток. Пальцы на одеяле дрогнули, совершили короткое, порывистое движение — не танец, а скорее судорожный вздох. Он выключил музыку на третьей минуте и ушел, чувствуя странную смесь разочарования и чего-то похожего на надежду.
Той же ночью он не спал. Сидел за кухонным столом в своей тихой квартире, перед ним горел экран ноутбука. Он нашел специализированный форум, архив балетных постановок за последние пять лет. Пролистывал афиши, искал, сопоставлял даты. Наконец нашел — «Жизель» в Национальном театре. Премьера была за два месяца до ее инсульта. Он скачал партитуру. Тот самый состав, та самая запись.
Утром он вошел в палату с новым, более мощным динамиком. Его пальцы были холодными, хотя в коридоре было душно. Он не смотрел на нее, пока устанавливал соединение по Bluetooth. Просто нажал «play».
Когда зазвучали первые такты увертюры, ее дыхание перехватило. Резкий, короткий вдох, который был слышен даже через всю палату. Она не повернулась, не посмотрела на него, но все ее тело замерло, превратилось в один большой слух. Потом, медленно, почти невероятно, ее правая рука поднялась. Не вся, только от запястья. Пальцы выстроились в ту самую изящную, выверенную линию, что он видел на видео с репетиций. Они повторили движение из второго акта, то самое, что исполняет тень Жизели. Совсем немного. Всего на несколько секунд. Потом рука упала на одеяло, как подкошенная.
Бан Чан сидел в своем углу и смотрел. Он видел, как дрожат ее ресницы, когда скрипки выходили на кульминационную ноту. Видел, как мышцы ее шеи напряглись, когда виолончель взяла певучую тему. Видел, как ее горло сглотнуло, когда арфа отыграла свое и музыка замолкла.
Он не стал ждать полного окончания отрывка. Выключил музыку на полуслове, встал и вышел из палаты. В коридоре он прислонился к прохладной стене, зажмурился. Его собственные руки дрожали. Он разжал кулаки, посмотрел на свои пальцы — крепкие, короткие, пальцы хирурга — и увидел ее пальцы: длинные, изящные, рассказывающие историю, которую ее голос не мог произнести.
Он спустился на первый этаж, в больничное кафе. Было еще рано, всего несколько человек. Он заказал черный кофе, не глядя на бариста, и сел за столик в дальнем углу, у стены. Поднял взгляд.
За соседним столиком сидели двое парней. Один, с живыми светлыми волосами, словно солнце, и подвижным лицом, что-то оживленно рассказывал, размахивая руками. Другой, со спокойными чертами и усталыми, но добрыми щенячьими глазами, слушал, улыбаясь уголками губ, и иногда вставлял короткие реплики, от которых первый заливался громким, заразительным смехом. Они пили кофе из бумажных стаканов, точно таких же, как у него. Они просто разговаривали. Смеялись. Жили.
Бан Чан смотрел на них, и что-то сжималось у него глубоко внутри, в районе солнечного сплетения. Острая, физическая тоска. Он видел, как легко они обмениваются словами. Как один бросает фразу, а другой тут же парирует. Как они смеются над чем-то, что было понятно только им двоим. Простота этого общения казалась ему сейчас чудом. Непостижимым волшебством.
Он посмотрел на свои руки, все еще сжатые вокруг бумажного стакана. Кофе внутри уже остыл. Он вспомнил ее руки — те самые, что всего полчаса назад говорили на языке, понятном только ей и, возможно, теперь ему. Ту пропасть, что лежала между этим миром — миром простых разговоров и смеха — и тем, из которого он только что вышел. Миром молчания, в котором танец заменял слова, а боль выражалась дрожью ресниц.
«Вот так, наверное, должно быть, — промелькнуло у него в голове, ясно и четко. — Просто».
Он допил холодный кофе до дна, поднялся и вышел из кафе. Автоматические стеклянные двери раздвинулись перед ним, выпуская на улицу. Холодный осенний воздух обжег легкие, заставил вздрогнуть. Он застегнул халат, которого не снимал, и пошел, не глядя по сторонам. Он шел по серому асфальту, а в ушах у него все еще звучали скрипки из «Жизели», и перед глазами стояли те двое незнакомцев из кафе, которые могли просто говорить и смеяться, не зная, какая это роскошь.
Он не пошел к себе. Он свернул к ближайшему магазину электроники, толкнул дверь, вошел внутрь. Подошел к стойке с аудиотехникой. Стоял минут десять, глядя на ряды колонок разных размеров и цветов. Наконец указал на одну, подороже, с лучшими характеристиками по звуку.
— Эту, — сказал он продавцу. Чтобы слышны были все нюансы. Каждое дыхание оркестра. Каждый вздох музыки.