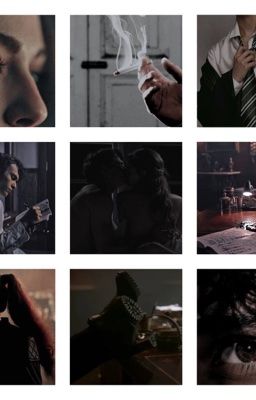Близость
Тео
Большой зал был наполнен звоном серебряных приборов о фарфор, гомоном голосов и взрывами беззаботного смеха. Но для меня все эти звуки приглушились, слились в отдалённый, бессмысленный гул, как только мой взгляд упал на неё. Авари Квелл сидела за преподавательским столом, но её одинокая фигура, которую я привык видеть, теперь была не одна. Рядом с ней, развалившись в соседнем кресле с непринуждённой, почти собственнической уверенностью, сидел незнакомец.
Мужчина, лет тридцати, не больше. Хорошо сложенный, одетый в элегантную, но нарочито скромную мантию из дорогой тёмно-серой ткани, без единого намёка на вычурность. Его поза была расслабленной, его улыбка — лёгкой, открытой и безупречно белой. Он что-то говорил, склонившись к ней, и Авари смеялась — не той сдержанной, вежливой улыбкой, что обычно играла на её губах на уроках, а настоящим, глубинным, идущим из самого нутра смехом, от которого её глаза превратились в узкие, сияющие щёлочки, а она слегка откинула голову назад, обнажив бледную, уязвимую линию шеи.
Я замер у входа в зал, чувствуя, как что-то холодное, тяжёлое и безобразное, как ком чёрной глины, опускается и застывает у меня в желудке.
Это был не студент. Не коллега с натянутой учтивостью. В этом человеке, в каждом его жесте, чувствовалась другая, чужая энергия — уверенная в себе, современная,. Он наклонился к ней, его рука лежала на резной спинке её стула, его пальцы почти касались её плеча. И она... не отстранялась. Не отодвигалась на тот сантиметр, который всегда был между нами.
— А, Нотт! Иди сюда, место есть! — крикнул Блейз, но его голос словно долетал из-под толстого слоя воды, искажённый и неважный.
Я механически подошёл к столу Слизерина и опустился на скамью, не в силах оторвать взгляда от преподавательского стола. Еда передо мной пахла жиром и травами, но вызывала лишь тошноту.
— Кто это? — мой собственный голос прозвучал хрипло, будто мне в горло насыпали битого стекла.
Драко, разбирающийся с жареной картошкой, лениво покосился в ту сторону.
— О, это? Какой-то старый друг Квелл. Из MACUSA, кажется. Прикатил с очередной инспекцией или вроде того. — Он фыркнул, с пренебрежением отодвигая от себя тарелку. — Выглядит так, будто решил провести... персональную инспекцию. Смотрит на неё, как голодный кот на сметану.
Я не ответил. Я видел, как незнакомец сказал что-то тише, наклонившись к её уху, так близко, что его губы чуть не коснулись её кожи. Как её улыбка стала мягче, более интимной, предназначенной только для него. Как она кивнула в ответ, и её взгляд на мгновение встретился с взглядом гостя — и в нём было то самое понимание, совместная история, непринуждённая близость, которой у нас с ней никогда не было и быть не могло. От этого зрелища у меня так свело челюсти, что боль отдала в виски.
Я наблюдал, как тот мужчина с лёгкостью передал ей бокал с водой. Как его пальцы, длинные и уверенные, слегка, случайно касались её, когда она взяла его. Как она не отдёрнула руку, не замерла, как со мной. Просто приняла, как нечто само собой разумеющееся.
И тогда внутри меня поднялось, вырвалось на свободу что-то уродливое, холодное и безжалостное. Не детская, истеричная ревность. Не вспышка слепого гнева. Это было глубже, страшнее. Это было осознание. Жестокое, безжалостное, кристально ясное, как удар ножом между рёбер.
Он мог дружественно касаться её, говорить с ней, смеяться, смотреть на неё так, не таясь. Он мог быть с ней на равных в одном мире, в одной реальности. Ему не нужно было прятаться в тёмных нишах, придумывать поводы для случайных встреч, расшифровывать каждое слово, каждый взгляд. Ему не нужно было быть тенью. Он мог просто... быть. Рядом с ней. При всех.
Пропасть между мной и Авари, которую я так отчаянно, так самонадеянно пытался игнорировать, перепрыгнуть силой своего чувства, внезапно разверзлась передо мной во всей своей неизмеримой, ледяной глубине. Я был мальчиком. Учеником. Тайной. Постыдной болезнью, которую нужно скрывать ото всех, которую она, возможно, стыдилась сама.
А этот мужчина... он был реальностью. Нормальной, взрослой, законной реальностью.
Я отодвинул свою нетронутую тарелку. Еда казалась мне безвкусным пеплом на языке. Я встал, не глядя на друзей, и вышел из Зала, чувствуя на своей спине их недоумевающие взгляды. Я не мог дышать этим воздухом, который был густо наполнен звуком её счастливого, свободного смеха с другим мужчиной.
Я прошёл в пустую, тёмную гостиную Слизерина и рухнул в ближайшее кожаное кресло у мёртвого, холодного камина. Внутри меня бушевала буря из осколков стекла и льда, рвавшая всё в клочья.
Я не злился на неё. Вся ярость, всё отвращение были направлены на себя. На своё чудовищное высокомерие, что позволило мне поверить в то, что наша хрупкая, призрачная связь что-то значит в этом реальном мире. На свою слепоту, что отказывалась видеть очевидное.
Я представлял их вместе. Не здесь, не в Хогвартсе, среди этих готических стен. В Нью-Йорке. В каком-нибудь модном, сияющем магическом ресторане с панорамными окнами. Они говорят о работе, о международной политике, о сложных заклинаниях и вещах, о которых я мог только читать в книгах или слышать обрывками. Они легко, непринуждённо касаются друг друга. Они смеются. Они идут вместе в её квартиру, которая пахнет кофе и её духами.
Картина была настолько ясной, настолько болезненной, невыносимо реальной, что я с сжал руки в кулаки, чувствуя, как ногти до крови впиваются в ладони, но эта физическая боль была ничем по сравнению с той, что разрывала грудь.
Наш «танец», наша возвышенная, изощрённая игра внезапно показалась мне жалкой, нелепой, детской игрой в прятки. Глупой, наивной, совершенно безнадёжной.
Я сидел так часами, не двигаясь, пока в коридоре не послышались редкие, торопливые шаги. И тогда я узнал, чьи это шаги. Лёгкие, уверенные, отчётливые. Её.
Я не пошевелился, не подал вида, когда дверь в гостиную с тихим скрипом открылась и она замерла на пороге, озарённая светом из коридора.
— Теодор? — её голос прозвучал тихо, с лёгкой, тревожной нотой вопроса, будто она уже чувствовала ледяной холод, исходящий от меня.
Я медленно, будто через невероятную силу, поднял на неё взгляд.
— Профессор, — произнёс я ровным, безжизненным, механическим тоном.
Она вздрогнула, будто я ударил её, будто моё слово было настоящей пощечиной. Она видела перемену, видела эту новую, сокрушительную холодность, видела ту неприкрытую боль, которую я даже не пытался скрывать.
— Что... что случилось? — она сделала неуверенный шаг вперёд, в темноту комнаты.
— Ничего, — я ответил, намеренно отводя взгляд в сторону, в тень. — Всё в полном порядке, как и должно быть.
Я встал. Я был выше её, всегда был, но в этот момент я чувствовал себя карточным домиком, готовым рассыпаться от одного её прикосновения, от одного слова.
— Я просто... наконец-то всё понял, — я сказал, мой голос был тихим, но каждое слово падало между нами с гулом, как тяжёлый камень в бездонный колодец. — Желаю вам приятного вечера. С вашим... гостем.
И я прошёл мимо неё, не дотрагиваясь, не оглядываясь, не позволяя себе ни малейшего проявления того, что творилось внутри. Я оставлял позади не гнев, не обиду, не детскую ревность. Я оставлял холодное, безмолвное, окончательное осознание всей бесполезности, всей тщетности своих чувств и надежд.
Авари
Я стояла, как вкопанная, в центре комнаты, и моё собственное дыхание казалось мне чужим, грубым и слишком громким в этой пустоте, что он оставил после себя. Воздух, ещё секунду назад бывший просто воздухом, теперь был густо наполнен невидимыми, острыми осколками его боли, его последних слов, которые висели между четырьмя стенами, как ядовитый, удушающий газ.
«Я наконец-то всё понял».
Эти слова, тихие и безжизненные, эхом отдавались в моём черепе, каждый раз ударяя с новой, свежей силой, вышибая из-под ног почву. Я чувствовала их физически — как холодный, отполированный нож в солнечном сплетении, перехватывающий дыхание и парализующий всё внутри.
Я медленно, почти механически, на ощупь, опустилась в то самое кресло у камина, где он только что сидел. Кожа подлокотников ещё хранила слабое, уходящее тепло его тела. Я прижалась к ним ладонями, сначала осторожно, потом с силой, словно пытаясь впитать это последнее тепло, поймать, удержать последний отсвет того живого огня, что пылал в нём всего час назад и который я сама же, своим невежеством, своей слепотой, так легко погасила.
И тогда, сквозь онемение, на меня обрушилось осознание своей собственной, глубокой, разъедающей, постыдной ошибки.
Я представила себя его глазами. Со стороны. Свою непринуждённую, расслабленную позу за преподавательским столом. Свой свободный, громкий смех, который я не сдерживала. Своего старого друга Джулиана, чья привычная, братская близость, его лёгкие прикосновения, сейчас, в этом новом свете, казались мне не дружескими, а ужасающе демонстративными, слепыми, бездушными, жестокими по своей нечаянности. Я не думала! Я просто... радовалась старой дружбе, приятному знакомству. И в этой радости, в этой лёгкости, я совершенно, абсолютно забыла о нём. О том, кто всегда наблюдает. О том, для кого каждый мой жест, каждое моё слово, каждый взгляд имеет вселенский вес и значение.
Я не просто причинила ему боль, я унизила его. Свела всё наше сложное, выстраданное, наполненное молчаливыми клятвами и обещаниями танго к примитивной, жалкой сцене ревности. Я позволила грубому, внешнему миру, миру взрослых и их неоспоримых реальностей, ворваться в наш хрупкий, тайный, священный мирок и растоптать его.
Волна жгучего, всепоглощающего стыда залила меня с головой. Я сжала веки, пытаясь спрятаться, но на внутренней стороне век, стояла одна-единственная, выжженная картина — его глаза. Пустые. Безжизненные. Потерявшие всякий огонь.
Он не злился, он принял. Принял мою «нормальность» с кем-то другим. Принял своё место где-то далеко внизу, в иерархии этого мира. Принял поражение, которое я нанесла ему, даже не поднимая руки, не желая того, одним лишь своим существованием в реальности, где ему не было места.
И это ранило меня глубже, чем любая ярость, любой крик. Потому что его холодность, его отстранённость были зеркалом, в котором я увидела своё собственное отражение — неловкое, глухое, разрушительное. Я так старалась быть осторожной в нашей тайной, опасной игре, выверяя каждый шаг, каждое слово, и в один миг, по глупости, по невнимательности, разрушила всё одним необдуманным, публичным жестом, одним искренним смехом.
Я провела дрожащими руками по лицу, чувствуя, как пальцы предательски трясутся, а кожа под ними горяча и суха. Мне дико, отчаянно захотелось бежать за ним, схватить его за руку, объяснить. Выпалить, что этот человек — никто, что его прикосновение ничего не значит, что это просто привычка, что мой смех был просто... вежливостью, социальной условностью, ничего более.
Но я так и осталась сидеть в его кресле, в полной, исповедальной темноте, чувствуя, как по моим щекам, горящим от стыда, медленно и бесшумно катятся горячие слёзы. Я плакала не о нём, не о нашем потенциале, призрачном будущем, которое теперь казалось ещё более недостижимым. Я плакала о доверии, что он мне подарил и которое я так нечаянно, так глупо разбила вдребезги. О той хрупкой, невидимой связи, что мы с таким трудом выстроили между собой, и которую я одним неосторожным движением обратила в пыль.
Я была профессором. Я должна была лучше знать, должна была видеть дальше, думать наперёд. Я должна была защитить его — не только от сплетен и пересудов, но и от самой себя. От своей собственной невнимательности. От своей ужасающей способности причинять боль, даже не желая того, не имея такого намерения.
И самое ужасное, самое беспощадное было то, что я знала — он простит меня. Он примет мои мои путаные объяснения, он может вернуться к нашему прерванному танцу, но с ещё более высокими, ещё более надёжными стенами вокруг своего и без того израненного сердца.
Но что-то, что-то самое главное и хрупкое, будет разрушено безвозвратно. Та магия, что жила в нашем тайном понимании, будет осквернена, опошлена этим инцидентом.
Тео
На уроках я отвечал безупречно, холодно, предельно технично, выжимая из себя только голые факты, лишённые намёка на личное мнение или интерес. Я сдавал работы раньше всех, идеально оформленные. Я стал самым образцовым студентом Слизерина, потому что любая эмоция, любая искра индивидуальности требовала энергии, а вся моя энергии, каждая её капля, уходила на одно — чтобы не смотреть на них. Чтобы не чувствовать того, что поднималось во мне каждый чёртов раз — не ярости, не ревности, а жгучей, почти физической боли. Она локализовалась где-то глубоко в районе диафрагмы, сжимаясь в тугой, раскалённый докрасна узел, который мешал дышать полной грудью.
Я видел, как Авари пыталась меня поймать. Её взгляд, беспокойный и острый, искал меня в толпе студентов, скользил по моему лицу на уроках. В её глазах, в их зелёной глубине, читалось откровенное беспокойство, щемящая вина, немой вопрос.
Однажды ночью, когда слизеринцы, воспользовавшись отсутствием Снейпа, устроили шумную, истеричную вечеринку с приглушённой маггловской музыкой и запрещённым пивом, я не смог вынести этого фальшивого, давящего веселья. Я ушёл в свою спальню, захлопнул дверь и лёг на кровать в полной, кромешной темноте, уставившись в потолок. Я не думал ни о чём. Я просто ощущал ту самую, знакомую боль в груди, позволяя ей быть, наконец-то разрешая себе не бороться с ней, не подавлять её, а просто принять как данность, как погоду.
Я не услышал, как дверь открылась. Не было ни скрипа, ни щелчка. Я лишь почувствовал, как изменилось давление воздуха в комнате, и уловил тот самый, вбитый в подкорку запах — бергамота, холодного ветра.
Я не пошевелился, не обернулся. Я просто продолжал лежать и смотреть в темноту, зная, без тени сомнения, что это она. Зная это каждой клеткой своего измождённого тела, каждым обострившимся нервом.
Она не сказала ни слова. Сначала. Я лишь слышал её тихое, сбивчивое дыхание, чувствовал её взгляд на себе, тяжёлый даже сквозь темноту. Затем её шаги. Тихие, неуверенные, крадущиеся. Она остановилась у изголовья моей кровати.
— Он просто старый друг, Теодор, — её голос прозвучал шёпотом, хриплым от эмоций, которые она не могла больше удерживать внутри. — Он... он ничего не значит. Абсолютно ничего. И он уезжает послезавтра.
Я закрыл глаза. Её слова падали на меня как тяжёлые, мокрые камни, не принося облегчения, а лишь усугубляя пустоту. Они ничего не значили. Они были жалкими, пустыми, запоздалыми. Они не могли стереть ту всепоглощающую боль, что я чувствовал всю эту долгую неделю. Не могли изменить непреложный факт её неспособности или нежелания сберечь то хрупкое, невероятное, что начало было расти между нами.
— Это не о нём, — произнёс я наконец, мой голос прозвучал глухо, уставше, безжизненно в темноте, будто доносился из глубокого колодца. — Это никогда не было о нём.
Я повернул голову на подушке и посмотрел на неё. В бледном свете луны, что падал из узкого окна, её лицо было маской из страдания — бледным, с огромными, тёмными глазами, полными невысказанной боли.
— Тогда о чём? — прошептала она, и в её голосе слышалась подлинная, невыносимая растерянность, будто она впервые столкнулась с задачей, которую не могла решить.
— О том, — я произнёс тихо, без упрёка, с кристальной ясностью, выжигающей всё внутри, — что он может свободно стоять рядом с тобой. При всех. Касаться. Смотреть на тебя так, как ему хочется. А я... — я сделал паузу, чувствуя, как тот знакомый узел в груди сжимается до боли, до тошноты, — я должен прятаться в тёмных углах, как вор, и питаться крохами твоего внимания. И ещё быть за них благодарным. Считать их величайшей милостью.
Я видел, как мои слова попадают прямо в цель, как её глаза наполнились не просто виной, а настоящим, неподдельным ужасом от внезапного, шокирующего понимания. Она наконец-то, до самого дна, увидела нашу ситуацию моими глазами. Увидела всё унизительное, непреодолимое неравенство наших позиций. Увидела себя со стороны — щедрую, раздающую крохи, и меня — голодного пса, ждущего этих крох.
— Я никогда не хотела, чтобы ты ощущал себя так, — выдохнула она, и её голос разбился на полуслове, превратившись в сдавленный шёпот. — Я никогда... не думала...
— Я знаю, — я перебил её, мой голос был не злым, а бесконечно усталым. — Ты просто... не думала. А я... я не должен быть твоей мыслью, твоей заботой. Я это знаю. Я всегда это знал.
Я отвернулся, снова уставившись в потолок, в темноту, которая была мне теперь роднее её присутствия. Разговор был исчерпан. Я сказал всё. Вывалил к её ногам свою окровавленную, незащищённую боль. И теперь я был пуст. Совершенно, оглушительно пустоту. И бесконечно, до костей, уставший.
Авари
Это была исповедь, вывернутая наизнанку, обнажающая всю гниль и боль нашего положения. Боль, которую я так старательно игнорировала. И в тот миг она стала осязаемой. Я почувствовала её как физический удар — горячий и резкий — прямо в солнечное сплетение. Воздух перехватило. Я видела, как сжались его кулаки на грубом одеяле, как напряглись мышцы плеч, готовые принять новый удар. Он показал мне своё самое уязвимое, самое больное место — эту унизительную зависимость, эту вынужденную скрытность, которая разъедала его изнутри.
Я не помню, как решилась, просто моё тело пришло в движение само. Резкий, порывистый шаг вперед, к кровати. Пальцы вцепились в грубую ткань его простыни по обе стороны от его бедер, ища опоры в этом рушащемся мире. Наклон. Мой силуэт отрезал его от лунного света, и я накрыла его своей тенью, почувствовав на мгновение странную, первобытную власть.
Он замер. Его глаза, ещё секунду назад полные боли и горечи, распахнулись от шока. Я увидела в них вспышку — протест, вопрос, может быть, предупреждение. Его губы дрогнули, пытаясь сформировать слово, отстраниться.
Но я не дала. Я не позволила миру снова ворваться между нами. Мои губы нашли его в полумраке со слепой, ослепляющей точностью.
Это не был нежный поцелуй. Это была отчаянная попытка заткнуть рану плотью. Мои губы были мягкими, но давление было твёрдым, почти отчаянным. Это был поцелуй-заклинание, поцелуй-приказ. Молчи. Замолчи и чувствуй. Чувствуй только это. Только нас. Забудь о крошках. Возьми всё.
Он застыл подо мной, абсолютно неподвижный, его тело напряглось. Я чувствовала жар его кожи под своими губами, как его дыхание застряло в горле, как его сердце заколотилось о мою грудь.
Я сама была в шоке от своей дерзости. Пальцы, вцепившиеся в простыню, дрожали. Но я не отступала. Я двигала губами по его, безжалостно, не позволяя опомниться, не позволяя мыслить. Я вливала в этот поцелуй всё — свою вину, отчаяние, тоску по нему, которую так тщательно хоронила в самых потаённых уголках души. Это была моя исповедь, безмолвная и куда более честная, чем все мои прошлые речи.
И потом... Потом случилось чудо.
Сначала это была едва заметная дрожь, пробежавшая по его телу. Затем его губы дрогнули под моими, смягчились. И... он сдался.
Его руки поднялись, впились в ткань моего платья на спине, сжимая её, притягивая меня ближе, еще ближе, стирая последние миллиметры, последние преграды между нами. Его поцелуй из молчаливого принятия превратился в нечто яростное, собственническое, отчаянное. Он целовал меня как человек, отчаянно пытающийся доказать, что он жив, что он здесь, что он имеет право на это. На меня.
Мы дышали друг в друга, наши дыхания смешивались в горячую, влажную симфонию, единственный звук, имеющий значение. Мир сузился до точки нашего соединения — до жара губ, до хватки его пальцев на моей спине, до бешеного стука наших сердец, бившихся в унисон, вопреки логике, вопреки разуму, вопреки всему.
Когда мы наконец разъединились, чтобы перевести дух, наши лбы остались прижатыми друг к другу, а дыхание было неровным, громким и постыдным в вернувшейся тишине.
— Не говори, — прошептала я, и мой голос был чужим, хриплым, разбитым. — Никогда не говори, что ты заслуживаешь только крошки. Никогда.
Он не сказал ничего. Он просто смотрел на меня в полумраке, и его глаза были бездонными, тёмными озерами, в которых плавали осколки шока, боли и чего-то дикого. Его большой палец медленно, почти с благоговением, провел по моей влажной, запёкшейся нижней губе.
Он медленно приподнялся, не отрывая от меня взгляда, и мягко потянул меня за собой, пока мы не оказались сидящими на краю кровати. Наши бедра соприкасались, наши лица всё ещё были близки, его дыхание ласкало мою кожу, тёплое и живое.
Он не целовал меня снова. Он просто смотрел. Его глаза блуждали по моему лицу, словно запечатлевая каждую деталь в памяти — разрез моих глаз, изгиб бровей, линию губ. Это был не взгляд оценки. Это было поклонение. Немое, трепетное, от которого я чувствовала, как таю изнутри. Я чувствовала себя не объектом желания, а... чем-то драгоценным. Уникальной.
Я подняла руку и робко коснулась его щеки. Его кожа была гладкой, удивительно прохладной на кончиках моих пальцев, пылающих от внутреннего пожара. Он замер под моим прикосновением, его глаза закрылись, и он издал тихий, сдавленный звук, нечто среднее между стоном и вздохом облегчения, как будто моё прикосновение было одновременно и болью, и лекарством.
Мы сидели так в лунном свете — два силуэта в темноте, соединённые тишиной, дыханием и немым, всепоглощающим пониманием, что что-то между нами изменилось навсегда.
Тео
Наш танец начался снова. Но теперь он приобрёл новую, головокружительную глубину.
Мы разработали систему. Определённая книга, оставленная на определённом столе в библиотеке, была сигналом. Случайная встреча в определённое время в пустом коридоре была не случайной.
Наши встречи были редкими и краткими. Украденные моменты в заброшенных классах или тёмных нишах замка. Мы не целовались, мы редко даже касались друг друга. Мы просто стояли близко, дыша одним воздухом, и говорили шёпотом. Я ловил каждый оттенок её голоса, каждый луч в её глазах, когда она говорила о любимых заклинаниях. И она слушала меня так, как никто никогда не слушал — будто в моих словах был скрыт ответ на все вопросы.
Это было изнурительно. Это было вызывающе привыкание. Это было самое интенсивное и самое настоящее, что я когда-либо чувствовал.
Я научился читать малейшие изменения в её выражении лица, в тоне её голоса на уроках. Я знал, когда у нее был трудный день, по тому, как она держала свою палочку — чуть более собранно, чуть более жёстко. Она, в свою очередь, казалось, знала, когда я погружался в свои тёмные мысли, и могла поймать мой взгляд и крошечной, едва заметной улыбкой вернуть меня назад.
Мы создали свою собственную, частную вселенную внутри стен Хогвартса. Вселенную из взглядов, шёпота и памяти последнего поцелуя, что горел в нас, как вечное пламя, питая нас и сжигая одновременно.
Иногда, по ночам, я лежал в своей кровати и чувствовал боль. Не острую, а тупую, ноющую. Боль по тому, чего не могло быть. По обыденности. По праву прикоснуться к ней при свете дня. По смеху, который не нужно скрывать. Но тогда я вспоминал её глаза в темноте, её шёпот, обжигающий, как пламя.
И я понимал, что не променял бы эту боль и эту тайну ни на что другое. Потому что они были доказательством того, что то, что между нами, было реальным. Было настолько интенсивным и ценным, что за это стоило страдать. Стоило жить в тени.
Мы были призраками в стенах замка, но наша связь была реальнее, чем камень вокруг нас.
***
Спустя неделю после того поцелуя, Выручай-комната стала нашим единственным спасением. Не было никакой договорённости, лишь молчаливое, отчаянное понимание, что мы не можем больше довольствоваться мимолётными касаниями в библиотеке и взглядами. Мы нуждались в пространстве, где можно было быть просто Тео и Авари, без масок и ролей.
Комната приняла облик, который заставил моё сердце замереть на мгновение. Она создала для нас кабинет, похожий на её, но мягче, приватнее. Не было массивного профессорского стола, только низкий диван перед камином, где огонь потрёскивал, отбрасывая тёплые, пляшущие тени на стены, заставленные книжными полками. За окном, созданным магией комнаты, бушевала осенняя буря, дождь хлестал по стёклам, ветер выл в подворотнях, но здесь, внутри, царила тишина, нарушаемая лишь треском поленьев и сбивчивым ритмом нашего дыхания.
Мы стояли друг напротив друга в центре комнаты, как два дуэлянта, замершие перед началом сражения. Вся моя кожа горела, каждый нерв был натянут до предела, и я видел, как мелкая дрожь пробегает по её рукам, сжатым в замок перед собой.
— Мы не должны этого делать, — прошептала она, но её голос был лишён убеждённости. Это был голос, полный страха и желания, хриплый от внутренней борьбы.
— Я знаю, — ответил я, и мои собственные слова обожгли горло. Но ноги сделали шаг вперёд, сокращая дистанцию, которая мучила меня все эти недели.
Она не отступила. Её глаза, огромные и тёмные в полумраке, впивались в меня, выискивая... что? Сомнения? Но во мне не было ничего, кроме всепоглощающей, болезненной потребности. Потребности прикоснуться, стереть эту дистанцию, доказать, что всё это — не сон, не игра моего больного воображения.
Я медленно, давая ей время отпрянуть, отшвырнуть меня, поднял руку. Мои пальцы коснулись её щеки, кожа под подушечками была прохладной, бархатистой, невероятно нежной. Она вздрогнула и прикрыла глаза, издав тихий, сдавленный звук, похожий на стон. Её собственные руки разжались, и одна из них поднялась, чтобы прикрыть мою, прижимая мою ладонь к своей щеке, утопая в её тепле.
— Теодор, — выдохнула она.
Это было всё, что мне было нужно. Последние оковы контроля лопнули. Я притянул её к себе, и наши тела столкнулось — жёсткое, напряжённое её, и дрожащее, готовое развалиться на части моё. Не было неловкости, не было неуверенности, был только голод. Долгий, изматывающий, выстраданный голод.
Мой рот нашёл её губы, они были мягкими и влажными, они отвечали мне с той же яростью, с той же отчаянной нуждой. Она вцепилась пальцами в волосы на моём затылке, притягивая меня ближе, ещё ближе, словно хотела слиться со мной в одно целое.
Мы дышали друг в друга, наши языки встречались в жарком, влажном танце, мои руки скользили по её спине, ощущая под тонкой тканью свитера хрупкость её плеч, изгиб позвоночника, дрожь, которая пробегала по её телу в такт моим прикосновениям.
Она оторвалась от моих губ, чтобы перевести дух, её лоб упал мне на плечо. Её дыхание было горячим и прерывистым.
— Боже, — прошептала она, и её голос дрожал. — Я так долго... так долго не позволяла себе этого.
— Я знаю, — я прижимал её к себе, чувствуя, как её сердце колотится в унисон с моим, два бешеных, отчаянных стука в тишине комнаты. — Я тоже. Каждую секунду. Каждую минуту.
Я опустил голову, мои губы коснулись чувствительного места за ухом, где пульсировала кровь. Она ахнула, её пальцы впились мне в плечи, и её тело выгнулось, прижимаясь ко мне всей длиной. Это было невыносимо и прекрасно. Я чувствовал каждую линию её тела, каждую мышцу, каждую косточку. Я упивался её запахом, её звуками, её реакцией на мои прикосновения.
Она откинула голову назад, подставляя шею моим губам, и её глаза, когда я поднял взгляд, были полны слёз. Но это были не слёзы печали. Это были слёзы облегчения, того самого чувства, когда ты наконец-то перестаёшь бороться с самим собой.
— Я так тебя хочу, — выдохнула она, и в этих словах была вся её сила, вся её уязвимость, выставленная напоказ. — Это ужасно. Это неправильно. Но я не могу... я больше не могу.
— Тогда не надо, — я прошептал, целуя уголки её губ, соль её слёз. — Просто будь со мной. Здесь. Сейчас.
Я поднял её на руки — она была такой лёгкой, такой хрупкой в моих объятиях, — и отнёс к дивану. Мы опустились на мягкую ткань, и её тело оказалось подо мной. Я смотрел на неё, на её растрёпанные волосы, разметавшиеся по тёмной ткани, на её распахнутые, сияющие влагой глаза, на губы, распухшие от наших поцелуев. Она была самой красивой, самой желанной, самым настоящим чудом.
— Ты уверена? — спросил я, последний раз давая ей шанс остановиться, оттолкнуть меня, вернуться к безопасности правил и условностей.
В ответ она потянулась ко мне и сама расстегнула пуговицы моей мантии. Её пальцы были тёплыми и уверенными.
— Не останавливайся, — прошептала она, и ее голос был хриплым. Это не была просьба, это был приказ.
Моё сердце, и без того колотившееся как бешеное, сделало в груди новое, болезненное сальто. Я медленно, почти ритуально, опустил голову и снова прикоснулся к её губам, но на этот раз все было иначе. Не спеша, с почти болезненной нежностью, я исследовал форму её рта, её вкус, солоноватый от слёз. Мои руки, большие, с длинными пальцами, которые так уверенно держали палочку, теперь дрожали, когда я принялся снимать её свитер.
Каждая открытая клеточка кожи была для меня самым прекрасным открытием. Ключицы, хрупкие, как у птицы. Плечи, покрытые лёгким загаром и россыпью веснушек. Ткань мягко соскользнула, обнажив простой, но изящный бюстгальтер из черного шёлка. Я замер, глядя на неё.
— Теодор... — моё имя сорвалось с её губ стоном, когда я, наконец, коснулся её груди не через ткань, а кожей к коже. Моя ладонь была горячей, я лелеял её грудь, чувствуя, как сосок набухает и твердеет под моим прикосновением, ощущая её трепет, который отзывался у меня внизу живота.
Я наклонился и заменил ладонь губами. Горячее, влажное прикосновение моего языка к сверхчувствительной коже заставило её выгнуться с тихим, сдавленным криком. Я ласкал её, то нежно, почти целомудренно, то с возрастающей дерзостью, заставляя её стонать и метаться подо мной, теряя остатки контроля.
Моя рука тем временем скользнула вниз, по её животу, и я чувствовал, как вздрагивают мышцы под моими пальцами. Я нашел пряжку на её брюках, и мои пальцы, такие ловкие в заклинаниях, вдруг стали неуклюжими. Она помогла мне, беззвучно, её глаза не отрывались от моего лица. Ткань брюк и нижнего белья соскользнула с её ног, я отбросил их, и мой взгляд пил её наготу в мерцающем свете огня.
Она была совершенна. Длинные, стройные ноги, изгиб бедер, темный треугольник волос в месте их соединения. У меня кружилась голова, я был опьянен её видом, её доверием.
— Ты так прекрасна, — прошептал я, и мой голос сломался. — Авари...
Я сбросил с себя остатки одежды, и вот мы — кожа к коже, от груди до бедер. Ощущение было настолько интенсивным, что на мгновение у меня потемнело в глазах. Её тело было и прохладным, и пылающим, податливым и напряжённым одновременно. Моя твёрдость, тяжёлая и пульсирующая, упёрлась в её мягкое лоно, и мы оба замерли, слушая оглушительный гул желания, наполнявший комнату.
Моя рука снова отправилась в путь, вниз, по внутренней стороне её бедра. Кожа там была самой нежной, какую я только мог представить. Я ласкал её, чувствуя, как её ноги раздвигаются для меня, приглашая, умоляя.
Мои пальцы нашли напряжённый клитор, и я начал ласкать его — сначала осторожно, круговыми движениями, изучая её реакцию. Каждый её стон, каждый вздох были для меня руководством. Я чувствовал, как её влага покрывает мои пальцы, слышал тихий, непристойный звук её тела, отвечающего на мои прикосновения.
— Пожалуйста... — задыхаясь, прошептала она, её глаза были зажмурены, лицо искажено наслаждением. — Тео, пожалуйста...
Я знал, чего она хочет. Моё собственное тело требовало того же с неистовой силой. Я переместился между её ног, мои руки подхватили её под бедра, приподнимая её навстречу мне. Головка моего напряжённого члена коснулась её входа. Я посмотрел ей в глаза, ища последнего подтверждения.
В её взгляде не было ни страха, ни сомнений. Только чистая, безудержная потребность.
— Я здесь, — прошептал я.
И начал входить в неё. Ощущение было сокрушительным. Горячая, шелковистая плотность, обнимающая меня, принимающая меня, заставляющая увидеть звезды. Я слышал её сдавленный стон, чувствовал, как её ногти впиваются мне в плечи, как она обвила меня ногами, притягивая глубже.
Я вошел в неё полностью, и начал двигаться. Сначала медленно, почти робко, давая ей привыкнуть. Но скоро контроль начал ускользать. Её стоны становились громче, её бедра начали встречать мои толчки, и моё имя на её устах превратилось в непрерывную, горячую молитву.
Мои движения стали быстрее, глубже, более властными. Каждый толчок был попыткой проникнуть в саму её суть, слиться с ней воедино. Я чувствовал, как внутри неё всё сжимается, напрягается, и знал, что она близка. Я наклонился, чтобы поймать её губы в поцелуе, поглощая её стоны, её дыхание.
— Я с тобой, — хрипло прошептал я ей в губы. — Просто отпусти себя. Я поймаю.
Её тело затрепетало вокруг меня, сжимая с такой силой, что я увидел белые вспышки перед глазами. Её крик, глухой и протяжный, был самым эротичным звуком, который я когда-либо слышал. Это стало моим собственным разрешением, триггером, который заставил моё собственное тело взорваться волной катарсиса, столь же мощной, сколь и неконтролируемой. Я погрузился в неё в последнем, отчаянном толчке, изливая в неё всю свою боль, свою страсть, выкрикивая ей в плечо.
Тишина, что наступила потом, была оглушительной. Я лежал на ней, тяжёлый, потный, совершенно опустошённый, чувствуя, как её сердце колотится о мою грудь. Её руки медленно скользили по моей спине, дрожащие, нежные.
Никто не говорил ни слова. Мы просто дышали, наши тела всё ещё были соединены, и в воздухе витал густой, сладкий запах секса.
***
Проснулся я от того, что в щель между ставнями ударил луч солнца. Я потянулся рукой на её сторону кровати, туда, где прошлой ночью было её тепло, её запах, её дыхание у моего плеча.
Простыни были холодными. Пустыми.
Сердце моё, ещё минуту назад дремавшее в посленочной истоме, резко и тяжело рухнуло куда-то в пустоту под рёбрами. Я сел. Комната, наша комната, была пуста. Она была безликой. Каменные стены, никакого камина, только пыльные сундуки и груда старых чучел в углу. Словно всё, что было вчера, — тепло огня, бархат её кожи под моими пальцами, её стоны, смешанные с треском поленьев, — было лишь миражом, порождением моего больного, одинокого воображения.
— Нет, — прошептал я в тишину. Голос сорвался. — Нет, этого не может быть.
Я вскочил, натягивая на себя штаны. Тело ломило, как после долгой битвы, и каждое движение отзывалось эхом её прикосновений. Я выбежал в коридор, не обращая внимания на странные взгляды пары первокурсников. Ноги сами понесли меня к её апартаментам. Я колотил в дверь кулаком, не стесняясь, не думая ни о чём, кроме одного — мне нужно было её видеть. Сейчас. Сию секунду.
Дверь открылась, но передо мной стоял не её укоряющий или смущённый взгляд, а удивлённое лицо завхоза Филча.
— Чего шумишь, Нотт? — просипел он, кося на меня своими бледными глазами. — Профессор Квелл тут нет. Уехала.
Я не понял. Не мог понять.
— Что? — выдавил я. — Куда?
— В Америку, куда же ещё! — Филч фыркнул, явно получая удовольствие от моей растерянности. — Срочный вызов, говорили. Ночью получила сову и укатила. Карета до Хогсмида была заказана ещё до рассвета.
Мир вокруг поплыл. Каменные стены коридора закачались, и мне пришлось опереться рукой о косяк, чтобы не упасть. «Ночью. До рассвета». Значит, она уехала, когда я ещё спал. Когда моё дыхание было спокойным, а на губах, возможно, играла улыбка. Она просто... ушла. Не попрощавшись. Не оставив ничего. Ни записки. Ни слова.
Я что-то пробормотал Филчу и побрёл прочь, не видя пути. Ноги сами понесли меня в Большой зал. Завтрак был в самом разгаре, гомон голосов, звон ложек. Мой взгляд автоматически устремился к преподавательскому столу. Её место было пусто. Стул аккуратно задвинут, перед ним не стояло ни тарелки, ни бокала. Словно её здесь и не было никогда.
И тогда до меня окончательно дошло. Это не была командировка. Это было бегство.
Всё встало на свои места с ужасающей, леденящей душу ясностью. Наша ночь, которая казалась мне самым реальным и важным событием в жизни, для неё была... чем? Ошибкой? Минутной слабостью? Последним актом отчаяния перед тем, как сбежать от последствий?
Я стоял в дверях Зала, и по телу разливалась странная, холодная пустота. Внутри не было ни ярости, ни обиды. Было ничего. Чёрная, беззвёздная пустота, в которой плавало лишь одно-единственное воспоминание: её глаза, когда она смотрела на меня в свете огня, прямо перед тем, как мы... Нет. Теперь я не мог быть уверен даже в этом. Может, в её взгляде была не страсть, а паника? Не любовь, а сожаление, которое уже стучалось в её сердце?
Кто-то толкнул меня в плечо. Драко.
— Нотт, ты в порядке? Выглядишь, будто тебя призрак догнал.
Я медленно повернул к нему голову. Должно быть, моё лицо было таким же пустым, как и всё внутри, потому что его насмешливый вид сменился настороженным.
— Квелл уехала, — сказал я, и мои собственные слова прозвучали как эхо из глубокого колодца.
— Ну да, — пожал он плечами. — Все в курсе. Срочный вызов в MACUSA. Говорят, надолго. Может, даже до конца семестра.
До конца семестра. Эти слова добили меня окончательно. Она не просто сбежала от меня. Она сбежала от всего этого. От Хогвартса. От наших уроков. От наших взглядов в библиотеке. От нашей тайны. Она стёрла всё, как стирают ненужную надпись с пергамента.
Я развернулся и пошёл прочь. Я не пошёл на уроки, не мог. Я поднялся на Астрономическую башню, туда, где когда-то она думала, что я хочу спрыгнуть. Теперь это желание казалось мне смешным и наивным. Прыгнуть — это быстро, а вот жить с этой дырой в груди, с этим осознанием, что тебя использовали перед возвращением в нормальный, взрослый мир...
Я стоял у парапета, глядя на простирающиеся внизу озёра и леса, и в голове прокручивал каждый момент нашей последней ночи. Каждое прикосновение, каждый шёпот. И теперь каждый из этих моментов был отравлен. Её страсть казалась мне наигранной. Её объятия — жестом прощания.
Она дала мне всё, а потом забрала с собой, оставив мне лишь леденящую пустоту и горькое послевкусие собственной глупости.
Я, Теодор Нотт, который всегда считал себя умнее, сильнее, который играл в опасные игры с её разумом, был в итоге побеждён самым простым и безжалостным оружием — её уходом. Я был для неё не любовью. Не страстью. Я был последним приключением. Грязным, запретным секретом, от которого сбегают на рассвете, не оглядываясь.
Ветер дул в лицо, холодный и резкий, но я почти не чувствовал его. Внутри меня бушевала своя буря — из обломков доверия, осколков надежды и тяжёлого, как свинец, стыда. Стыда за то, что позволил себе поверить. За то, что открылся. За то, что оказался тем самым наивным мальчишкой, каким она, должно быть, всегда меня и считала.
Она уехала в Америку. А я остался здесь. В каменной ловушке Хогвартса, в ловушке своих воспоминаний, с единственной уверенностью — наша ночь была для неё не началом, она была концом. И этот конец был тихим, стремительным и безжалостным, как удар ножа в спину. И теперь мне предстояло жить с этой раной.