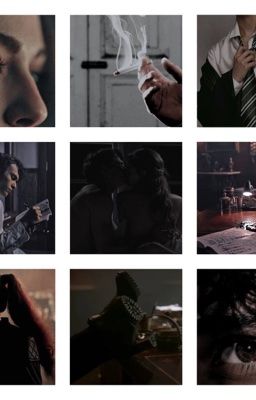Связь
Тео
Учебные будни снова поглотили Хогвартс, вернув ему привычный ритм уроков, шелеста пергамента и приглушённого гула голосов в каменных коридорах. Но для меня этот, казалось бы, знакомый сценарий приобрёл новые, непривычные краски, будто кто-то повысил контрастность всего окружающего мира.
Я сидел на уроке Зельеварения, механически измельчая упругий корень паутинника в ступке, но мои мысли были далеко. Я всё ещё физически чувствовал тепло той керамической кружки в своих ладонях и видел её лицо — уязвимое, уставшее и оттого невероятно настоящее.
— Эй, Нотт, ты там вообще с нами? — шипящий, пренебрежительный шёпот Драко вырвал меня из этой мечтательности. — Или до сих пор перевариваешь ту маггловскую коричневую воду, которую она тебя заставила пить? Выглядишь немного... отупевшим.
В ответ я лишь покрутил ступку в руках, ощущая её знакомый вес, и, не поднимая глаз на него, тихо, почти задумчиво произнёс:
— Она называется «кофе». И да, она... интересная. Насыщенная.
В моём голосе не было ни вызова, ни раздражения, ни смущения. Была лишь лёгкая задумчивость, как если бы я размышлял о новом сложном зелье. Драко замер с открытым ртом, его нож для резки змеиных клыков застыл в воздухе. Такой ровной, спокойной реакции он явно не ожидал.
На перемене в гостиной Слизерина атака продолжилась, но уже в более ожидаемом, похабном ключе. Блейз Забини, развалясь на диване с видом мученика, с притворным вздохом произнёс:
— Значит, так. Наш Нотт официально перешёл на тёмную сторону. Маггловские напитки, американские привычки... Скоро и палочку менять на какую-нибудь механическую штуку будешь? Будешь кнопки нажимать вместо заклинаний?
Лёгкая, почти незаметная улыбка сама собой тронула уголки моих губ.
— Возможно, их изобретения не так уж и плохи, — произнёс я так тихо, что это было скорее для самого себя, озвучивание внутреннего открытия.
Но они услышали, и в гостиной наступила поразительная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием поленьев. Шутки кончились. Они — Драко, Блейз, даже притихшая в углу Пэнси — смотрели на меня с новым, изучающим, почти настороженным интересом.
Позже, когда гостиная почти опустела и мы остались втроём — я, Драко и Блейз — атмосфера стала более серьёзной, приглушённой. Драко, смотрел в огонь и нахмурив свои светлые брови, спросил, не глядя на меня:
— Ладно, Нотт, я серьёзно. Что... что там происходит? С ней. С тобой.
Раньше я бы отмахнулся, съязвил о его личной жизни или просто ушёл, хлопнув дверью. Но сейчас, сквозь его грубоватый тон, я чувствовал не давление или праздное любопытство, а... беспокойство. Неловкое, неумелое, но искреннее.
Я молчал так долго, что Блейз, обычно такой легкомысленный, тихо добавил:
— Ты не... сам-то как? Не то чтобы нас это волновало, — поспешно добавил он, отряхивая несуществующую пылинку с мантии, но в его тоне было что-то непривычно серьёзное.
Я поднял на них взгляд. Я видел перед собой не любопытствующих сплетников, жаждущих пикантных деталей, а... друзей. Пусть и эгоистичных, по-своему циничных, но в данный момент искренне пытающихся понять и, возможно, даже защитить меня.
— Я... не знаю, — признался я, и это была не уловка, не игра. — Это не то, что было раньше. Это... по-другому.
— По-другому как? — не отступал Драко, всё ещё хмурясь, его пальцы нервно постукивали по ручке кресла. — Она же всё равно профессор, а ты... ты студент. Это не изменилось.
— Я знаю, — вздохнул я, ощущая тяжесть этого неоспоримого факта. — И она знает. И... — я запнулся, подбирая слова, которые могли бы передать всю сложность и парадокс ситуации. — И, кажется, это... не самое главное сейчас. Не самое главное в том, что... происходит между нами.
Блейз присвистнул, откидываясь на спинку дивана.
— Охренеть. Ты влюбился. По-настоящему. Без всяких там... твоих больных заморочек. — В его голосе было больше страха, чем привычной насмешки.
Я не подтвердил и не стал отрицать. Я просто снова уставился на огонь, ощущая странное, глубокое спокойствие, несмотря на всю сложность разговора. Мне не нужны были ярлыки, не нужны были определения. Я просто знал каждой клеткой, что то, что я чувствовал сейчас, было глубже, сложнее, взрослее и реальнее любой моей предыдущей, разрушительной одержимости.
Драко помолчал, разглядывая своё отражение в начищенном носке ботинка, а затем сказал, почти неохотно, будто слова давались ему с трудом:
— Просто... будь осторожен, ладно? Это же Квелл. Она не какая-нибудь... Она... она может раздавить тебя как букашку, если захочет. В прямом и переносном смысле.
— Она не захочет, — тихо, но с абсолютной, не оставляющей сомнений уверенностью ответил я.
Они оба смолкли, переваривая это заявление. Затем Блейз неожиданно хлопнул меня по плечу с такой силой, что я кашлянул.
— Ладно. Если что, мы прикроем. Скажем Северусу, что это мы тебя загипнотизировали старым заклинанием. Или что она тебя заговорила своими американскими чарами. В общем, как-нибудь выкрутимся.
В его тоне, сквозь привычную шутливую браваду, пробивалась подлинная, пусть и грубоватая, поддержка. И именно в этом — в их неуклюжей, но искренней попытке понять и обезопасить меня, в их готовности быть на моей стороне, пусть даже в самой безнадёжной ситуации, — я ощущал не просто старую, удобную дружбу, основанную на общем статусе и насмешках над другими, а... братство. Грубое, несовершенное, порой токсичное, но в данный момент — настоящее.
— Спасибо, — сказал я. И это простое слово в тишине гостиной Слизерина значило для нас троих больше, чем тысячи громких клятв или пафосных речей.
***
Свет сотен парящих свечей отражался в позолоченных тарелках и хрустальных бокалах, создавая атмосферу тёплого, сияющего, почти одурманивающего хаоса Большого зала. Я сидел за длинным столом Слизерина, механически поднося ко рту вилку, но мои чувства были притуплены, полностью поглощены внутренним миром, который был куда громче и ярче любого внешнего шума.
И я видел её.
Авари Квелл сидела за возвышающимся преподавательским столом, оживлённо беседуя с профессором Флитвиком. Она что-то рассказывала, её руки плавно жестикулировали в воздухе, рисуя невидимые формы, а её лицо было оживлённым, улыбка — лёгкой, непринуждённой и совершенно естественной. Она сияла.
И я знал с абсолютной, неоспоримой ясностью, что был причастен к этому. Не как завоеватель, взявший крепость штурмом, и не как благодетель. А как... человек, который увидел её самую уязвимую, ночную сторону и не использовал это против неё. Как человек, который открыл ей свою собственную уязвимость взамен, и был за это не осмеян, не отвергнут, а... принят.
Чувство, что подступило к моему горлу, сжимая его тугой, тёплой петлёй, было слишком огромным и сложным, чтобы его можно было назвать. Это была густая смесь тихой гордости за неё, глубокого, всепроникающего умиротворения и чего-то ещё... чего-то, что было похоже на благоговение. Благоговение перед тем бесценным доверием, что мне было оказано. Перед этой хрупкой, почти невероятной связью, что возникла и укрепилась между нами поверх пропасти лет, социального статуса и всех наших прошлых, мучительных ошибок.
Я отвёл взгляд, опустив глаза на свою тарелку, чувствуя, как по моим щекам разливается предательский, лёгкий жар. Я боялся, что если буду смотреть на неё слишком долго, если позволю этому чувству выплеснуться через край, моё лицо выдаст всё — всё это бушующее, новое, нежное и оттого вдвойне пугающее море эмоций, что переполняло меня.
Мои пальцы инстинктивно сжали твёрдый, резной край деревянной скамьи. Оно было грубым, но необходимым напоминанием о реальности, о неписаных правилах этого мира, о том, что наше будущее всё ещё было скрыто в густом тумане неопределённости
Но потом я вспомнил то утро. Ту благословенную тишину, нарушаемую лишь потрескиванием поленьев. Всепроникающее тепло кружки в моих руках. Её улыбку, усталую, но настоящую, лишённую всяких масок. И неопределённость внезапно перестала казаться такой уж страшной. Она стала казаться... возможностью. Открытой дверью, а не глухой стеной.
Я рискнул, подняв взгляд, взглянуть на неё ещё раз. И в этот самый момент она, словно почувствовав импульс, подняла взгляд от оживлённого Флитвика и посмотрела через весь шумный зал прямо на меня.
Наши взгляды встретились. Не на секунду, не украдкой, они встретились и задержались, зацепившись друг за друга через всё это пространство, наполненное людьми, светом и шумом. В её глазах, в этих зелёных, как летний лес, глубинах, не было вопроса или предупреждения. Не было и открытой, всё разоблачающей нежности — для этого было слишком много посторонних глаз вокруг. Но в них была тихая, разделённая благодарность, что была точным отражением моей собственной.
Я не улыбнулся. Не смог бы, даже если бы захотел. Я просто слегка, почти незаметно кивнул. Крошечное движение, понятное только нам двоим. И она ответила тем же.
Это длилось всего один удар сердца, выстреливший где-то в горле. Затем она мягко отвернулась, чтобы ответить на какой-то вопрос Снейпа, сидевшего рядом. Но для меня этого мига было достаточно.
Я опустил взгляд на свою полупустую тарелку, и мои губы сами собой, без моего ведома, сложились в лёгкую, почти незаметную, но совершенно искреннюю улыбку.
***
Вечерний воздух был холодным и острым, каждый вдох обжигал лёгкие ледяной чистотой, но зато вымораживал душу, оставляя в разуме только ясность и тишину. Я стоял, прислонившись к холодному, шершавому камню, и смотрел на тёмные, величественные очертания гор, тонувшие в бархатной, бездонной тьме ночи. Звёзды над головой были такими яркими и близкими в разреженном зимнем воздухе, что, казалось, стоит лишь протянуть руку — и пальцы коснутся ледяной пыли Млечного Пути. И одновременно они были бесконечно далёкими, как и всё по-настоящему прекрасное в этом мире. Внутри меня, под рёбрами, всё ещё звучала тихая, сокровенная музыка того утра — ритмичное шипение кофеварки, мерное тиканье часов на каминной полке.
Внезапно позади меня раздался мягкий, почти неслышный шаг по замёрзшей, хрустящей земле. Я не обернулся, не нужно было. Я уже узнал её.
— Надеюсь, вы приготовили убедительное оправдание на случай, если мистер Филч почует здесь студента после отбоя, — её голос прозвучал тихо, совсем рядом, и в нём плескалась лёгкая, почти неуловимая нотка шутки, словно она делилась со мной какой-то своей маленькой тайной. — Что-то вроде «отрабатывал заклинание» или «искал убежавшего пушистика».
Я не повернулся сразу, дал себе секунду, чтобы это ощущение — её близость, её голос в ночи — проникло в самое нутро. Уголки моих губ сами собой дрогнули в улыбке, которую она не видела. Моё сердце совершило медленный, тяжёлый, совсем не юношеский кувырок в груди — не от страха или волнения, а от чего-то нового, тёплого, щемящего и безмерно ценного.
— Я подумывал сказать, что это профессор Квелл дала мне специальное задание по наблюдению за... поведением лунных слизней в ночное время, — ответил я так же ровно и спокойно, не отрывая взгляда от россыпи звёзд, будто мы обсуждали созвездия. — Думаю, мистер Филч не станет спорить с авторитетом преподавателя Защиты от Тёмных Искусств. Особенно если я добавлю пару умных слов об их слизи.
Я, наконец, посмотрел на неё краем глаза. Она стояла рядом, тоже опершись локтями на холодный камень парапета, её лицо было обращено к ночному небу. Бледный лунный свет серебрил её профиль, смягчая черты, делая их призрачными, почти неземными, как у древней богини, сошедшей с небес.
Она тихо рассмеялась — коротким, сдержанным, но от этого только более искренним смехом, который затерялся в бездонной ночной тишине, не потревожив её.
— Лунные слизни? — переспросила она, и в её голосе, прозрачном и звонком, как лёд, явно звучало веселье. — Можно было бы придумать что-то более... впечатляющее. Например, что вы выслеживали бундимуна в этих кустах. Это звучало бы куда более героически.
Я повернулся к ней полностью, наконец позволив себе смотреть на неё в полную силу. На её улыбку, тронувшую губы, на живые огоньки в её глазах, отражающие далёкие звёзды.
— Бундюмы не водятся в Шотландии, профессор, — с преувеличенной серьёзностью заметил я. — Филч может заподозрить неладное. А вот слизни... слизни всегда под рукой. В прямом смысле слова. Это правдоподобно.
Она покачала головой, притворно разочарованно, но улыбка так и не сошла с её лица, играя в уголках её глаз.
— Вы всегда такой приверженец правил, мистер Нотт, — наконец сказала она, и в её голосе, в его глубине, было что-то тёплое, почти нежное. — Даже когда нарушаете правила, вы ищете для этого самую логичную, самую безупречную лазейку. Это... замечательно.
— Стараюсь, — выдохнул я в ответ, и это было всё, что я мог сказать, потому что наши взгляды снова встретились и сцепились в ночи, и слова стали ненужными.
И в этот момент все наши шутки, все словесные игры иссякли, испарились в морозном воздухе. Остались только мы двое. Ночь. Звёзды. И это новое, огромное и невероятно хрупкое чувство, что висело между нами, — слишком большое, чтобы выразить словами, и слишком ценное, чтобы рискнуть спугнуть его.
Она отвернулась первая, разрушив этот гипнотический контакт, посмотрела обратно на тёмный, величественный силуэт замка, в окнах которого ещё кое-где теплился свет.
— Вам всё же стоит идти внутрь, — мягко сказала она. — Прежде чем вас и правда примут за слизня. Или того хуже — за призрака.
Я кивнул, понимая её с полуслова, но не двигаясь с места, впитывая последние секунды этого странного, прекрасного мгновения.
— А вы? — тихо спросил я.
— Я профессор, — она снова улыбнулась мне, на этот раз через ее плечо, и в её улыбке была лёгкая, почти озорная тайна. — Мне позволено немного... бродить, размышлять, наблюдать за звёздами.
Я понимающе кивнул. Затем, с усилием, заставил себя сделать шаг назад, оторваться от парапета, от этой невидимой линии, что связывала нас в пространстве.
— Спокойной ночи, профессор, — сказал я.
— Спокойной ночи, Теодор, — ответила она, и моё имя на её устах, прозвучавшее в хрустальной тишине ночи, показалось мне самым тёплым, самым могущественным и самым мирным из всех известных заклинаний.
Я развернулся и пошёл по замёрзшей траве к тёмному силуэту замка, ощущая её взгляд на своей спине, как физическое прикосновение. На моих губах, против воли, играла лёгкая, неуловимая улыбка.
Тёплое, почти осязаемое послевкусие нашей лёгкой, почти воздушной перепалки на холодном воздухе ещё витало вокруг меня, как дымка, когда тяжёлая дверь замка с глухим стуком захлопнулась за моей спиной, отсекая мир звёзд и её улыбки.
Я сделал шаг вперёд, в полумрак вестибюля, и тут же, резким, непрошеным ножом, вонзилось в сознание другое — едкий, кошачий запах, идущий откуда-то с уровня пола. Из-за громадной пыльной амфоры, хранящей молчание веков, выскользнула тёмная тварь. Миссис Норрис. Её глаза-щёлки, два жёлтых серпа, сверлили меня, а нос морщился, вынюхивая предательский, свежий запах ночного ветра, прилипший к моей мантии, и тот, другой, едва уловимый — бергамот и холод, что я принёс с собой, как контрабанду.
«Проклятье», — мелькнуло у меня в голове.
И тут же, как по зловещему сигналу, — шаркающие, волочащиеся шаги, зловещее бряцание связки ключей, полное ненависти ворчание. Филч. Паника, острая, слепая и животная, ударила мне в виски, затуманивая ясность, что была со мной секунду назад. Тело среагировало раньше разума — я инстинктивно рванулся назад, в ближайшую тёмную, пахнущую сыростью и пылью нишу, глухое ответвление коридора.
И в тот же миг, в том же тесном пространстве, что-то стремительное и тёплое налетело на меня сбоку.
Меня резко, с неожиданной силой дёрнули вглубь темноты, за горшки с засохшими, мёртвыми растениями. Прежде чем удивление успело оформиться в крик, на мой рот легла ладонь. Мягкая кожа, но с железной, безоговорочной хваткой.
Это была Авари.
Она затянула меня в самую глубь узкой ниши, прижав меня к ледяному, шершавому камню стены, а своим телом — ко мне, чтобы заслонить, спрятать, поглотить своим силуэтом. Всё произошло в абсолютной, звенящей тишине, за долю секунды, за один выдох.
Я стоял, парализованный, не страхом перед Филчем, не возможным наказанием, а этим. Её внезапной, абсолютной, шокирующей близостью. Её ладонью, запечатавшей мой рот. Её телом, прижатым ко мне, от груди до колен, создавшим одно целое из двух фигур в темноте.
Я чувствовал всё. Каждую линию, каждый изгиб её тела. Её грудь, давящую на мою грудную клетку, повторяя её бешеный ритм. Её бёдра. Её ногу, втиснутую между моих для устойчивости, создавшую невыносимую, порочную близость. Её быстрое, горячее дыхание, которое она пыталась заглушить, и которое обжигало кожу на моей шее, как раскалённое железо.
Шаги Филча замерли в шаге от нашего укрытия. Я чувствовал, как вибрирует камень от его тяжести.
— Чуешь, моя прелесть? — проскрипел он. — Пахнет нарушением! Где же он, негодник?
Я не видел ничего в кромешной, слепой тьме. Я чувствовал только её. Её руку на моём рту. Её пальцы, вдавившиеся в мои щёки, оставляющие на коже невидимые отметины. Её вес, доверчиво и в то же время опасно лежащий на мне, отдающийся ответной тяжестью глубоко внизу, в животе. Моё собственное сердце, колотящееся где-то в горле, бешеным, аритмичным молотом, угрожая вырваться наружу, выдать нас этим стуком.
Я боялся пошевелиться. Боялся дышать. Боялся, что если я сделаю хоть малейшее движение, она почувствует то, что происходит с моим телом — как оно отзывается на её прикосновение против моей воли, диким, постыдным, первобытным откликом. Как кровь приливает туда, куда не следует. Как всё моё существо, каждая клетка, кричит от этой шокирующей, невыносимой интимности, в которой не было ни капли желания, а была лишь реальность.
Она тоже замерла, превратилась в статую. Но я чувствовал, как бьётся её сердце — частой, испуганной дробью где-то под моими рёбрами, в унисон с моим. Мы были пойманы. Не Филчем, не правилами, а этой тьмой. Этим внезапным мгновением. Этим тесным, вынужденным переплетением наших тел, наших дыханий, наших судеб.
Время потеряло смысл, растеклось, как чернила в воде. Оно текло, измеряемое только ударами наших сердец и тягучим, ненавистным ворчанием смотрителя, который водил носом по воздуху, как гончая.
И затем, после вечности, шаги зашаркали прочь, унося с собой и кошку, и непосредственную угрозу. Их звук растворился в глубине коридора.
Её ладонь медленно, почти нерешительно, соскользнула с моих губ. Я почувствовал прохладу воздуха на влажной от её прикосновения коже. Но она не отстранилась. Она осталась прижатой ко мне, её лоб уткнулся в мою ключицу, её плечи тяжело, прерывисто вздымались.
Я не смел двигаться. Мои руки висели плетьми вдоль тела, сжатые в беспомощные кулаки. Всё моё существо было одним сплошным, гиперобострённым нервом, и каждая клеточка, где она касалась меня, — грудь, бедро, нога — горела огнём, оставляя в памяти шрам из ощущений.
— Прости, — она выдохнула прямо в мою кожу, и её голос был хриплым, сдавленным. — Я... я не могла позволить... чтобы он тебя...
— Я знаю, — я перебил её, и мой собственный голос прозвучал глухо. — Всё в порядке.
Я не пошевелил телом, не нарушил эту хрупкую, опасную границу. Но моя голова наклонилась чуть вперёд, само собой, повинуясь глубинному импульсу, и мои губы невесомо, коснулись её виска, её волн, пахнущих ночным ветром. Это было не поцелуй, не было в этом ни страсти, ни требования. Это было... дыхание.
Она вздрогнула всем телом, мелкой, подавленной дрожью, но не отпрянула. Наоборот, она, казалось, на мгновение, на один стук сердца, прижалась ко мне ещё сильнее, будто ища опору в в том, что я был здесь, реальный и твёрдый.
Затем, словно щёлкнул невидимый выключатель, она отстранилась. Резко. Её дыхание перехватило, став резким и коротким.
— Нам нужно... нам нужно идти, — прошептала она, и в её голосе снова появились нотки профессора Квелл, острые и отстранённые, но они дрожали, предательски выдают её потрясение, её смятение.
И она выскользнула из ниши, не глядя на меня, её плащ мелькнул в полосе тусклого света из конца коридора, и она почти побежала.
Я остался стоять в темноте, прислонившись спиной к холодному, безразличному камню, чувствуя, как мелкая, непрекращающаяся дрожь пробегает по всему моему телу, от пяток до макушки.
Я медленно поднял руку и кончиками пальцев коснулся своих губ. Кожа там всё ещё пылала, будто её ладонь оставила невидимый, но обжигающий след. Мне казалось, я могу чувствовать каждый завиток её отпечатка, малейшую шероховатость, оставленную жизнью.
Мысли не выстраивались в логическую цепь, а сталкивались друг с другом, как осколки разбитого зеркала, и каждый был острым, отражающим один и тот же образ.
Она прикоснулась ко мне. Её рука была на моём рту. Она затыкала меня. Контролировала. Её тело было прижато ко мне. Всё целиком.
Волна жгучего, всепоглощающего стыда захлестнула меня. Моё тело откликнулось на её близость с немедленной, животной, постыдной прямотой, и теперь, в холодной, беспристрастной темноте, это воспоминание заставляло меня гореть изнутри, как в лихорадке. Я был благодарен этой слепой тьме, что она скрывала пылающее лицо.
Дыхание срывалось, становясь коротким и прерывистым. Я представлял себе иное, альтернативную реальность. Что было бы, если бы Филч не ушёл? Если бы мы простояли так ещё минуту, две, пять? Осталась бы её рука на моих губах, влажная и тяжёлая? Расслабилось бы её тело постепенно, устав от напряжения? Рискнул бы я повернуть голову, всего на сантиметр? И... и что? Прикоснуться губами к её ладони? Облизнуть солёную кожу у её запястья? Испытать её вкус на языке, настоящий, а не этот призрачный след в памяти?
Я с силой, почти с яростью, тёр лицо руками, пытаясь стереть эти образы, эти опасные, безумные, сладострастные мысли.
Потом, сквозь хаос, пробилась третья волна — тихая, леденящая, полная ужасающей, безжалостной ясность. Я вспомнил не своё возбуждение, не её власть, а её дыхание. Частое, прерывистое, почти паническое. Горячий, влажный пар, что обжигал кожу на моей шее. Она была напугана по-настоящему. Не только Филчем и возможным скандалом. Тем, что произошло в этой темноте. Тем, что могло произойти, если бы что-то пошло иначе. Тем диким, неконтролируемым током, что зажёгся между двумя телами, прижатыми друг к другу в панике.
Я с силой оттолкнулся от стены, мои ноги наконец-то подчинились, оказавшись ватными и неустойчивыми. Я вышел из ниши, чувствуя себя вывернутым наизнанку, ободранным заживо и всё ещё мелко дрожащим. Коридор был пуст и безмолвен. Её уже не было — ни её запаха, ни звука шагов, только эхо нашего общего, подавленного ужаса.
Я побрёл к подземельям, не видя пути под ногами, не слыша собственных шагов, глухих к окружающему миру. Внутри меня бушевала самая настоящая буря.
Я зашёл в пустую, тёмную гостиную Слизерина, где лишь изредка поблёскивали зелёные огни в сосудах, и рухнул в ближайшее кожаное кресло у камина, закрыв лицо руками.
Авари
Дверь в мои апартаменты захлопнулась, и я прислонилась к ней спиной, не в силах сделать ни шага дальше, в безопасную, знакомую темноту комнаты. Мои колени предательски подкашивались, становясь ватными, а сердце колотилось где-то высоко в горле.
Тьма вокруг была абсолютной, но за моими сомкнутыми веками горели, пылали образы, яркие, обжигающие и стыдные до слёз.
Моя ладонь. Его губы.
Я медленно, будто в трансе, подняла руку и уставилась на неё в полумраке. Та самая правая рука, что только что была прижата к его рту, что чувствовала движение его губ, тепло его дыхания. Кожа на ладони словно горела, сохраняя ощущение его дыхания — горячего, влажного, живого. Я до сих пор чувствовала текстуру его губ — мягких, но упругих, и тот крошечный, стремительный момент, когда он... когда он чуть двинулся, едва заметно, почти поцеловал, почти вкусил кожу на моей ладони.
Я сжала руку в кулак, так сильно, что ногти впились в ту самую кожу, что только что касалась его, как будто могла удержать это ощущение, запереть его внутри, не дать ему вырваться и поглотить меня целиком. Стыд, немедленный и всепоглощающий, волной накатил на меня, жгучий и стремительный, как лава.
Что я наделала? Я заткнула рот своему ученику, прижала его к стене своим телом, втиснулась в него в темноте... Я вела себя как... как отчаянная, как безумная, как та, кем я никогда не позволяла себе быть.
Но под этим слоем стыда, глубже, в самых тёмных уголках, клубилось и поднималось нечто иное. Нечто пугающее своей интенсивностью, своей животной мощью. Та сила, что пробудилась во мне в тот миг. Сила не магическая, не интеллектуальная, а чисто физическая. Власть над ним, над его телом, над его дыханием, в тот момент, была... опьяняющей. Медовой и ядовитой.
Я провела языком по сухим, потрескавшимся губам, чувствуя, как по спине, от копчика до шеи, пробегают мелкие, предательские мурашки. Я вспомнила ощущение его тела под своим. Твёрдое, собранное, как пружина, напряжённое до предела, готовое к бою или к бегству. Его мускулы, сведённые под тканью мантии. Его сердце, бьющееся против моей груди как пойманная, перепуганная птица. И... Он хотел меня. Даже в страхе, в панике, в кромешной тьме, его тело отвечало мне на том языке, который нельзя было подделать или проигнорировать.
И моё собственное тело... ответило. Тепло, тяжёлое и сладкое, как расплавленный сахар, разлилось по низу живота. Я ненавидела себя за эту реакцию.
Я с силой оттолкнулась от двери и прошла в гостиную, чувствуя себя не в своей коже, чуждой в собственном теле. Моё платье, ещё несколько минут назад просто одежда, вдруг стало тесным, невыносимым, ткань грубо раздражала кожу, везде напоминая о том, как оно терлось, сжималось, вдавливалось в ткань его мантии. Я с силой, почти с яростью, дёрнула за шнуровку на груди, с облегчением вдыхая глубже, когда ткань ослабла.
Я была профессором. Я была ответственной женщиной. Я должна была контролировать ситуацию. Всегда. А я... я потеряла контроль полностью. Не только над ситуацией, над собой.
Я подошла к трюмо и дрожащей рукой зажгла одну-единственную свечу. В зеркале на меня смотрело не моё лицо. На меня смотрели огромные, испуганные, почти дикие глаза, растрёпанные, выбившиеся из причёски волосы, раскрасневшиеся, пылающие щёки.
Тео
Снег начался внезапно — не робкие хлопья, а слепая, яростная метель, обрушившаяся с неба с такой силой, что за несколько минут мир за запотевшими стеклами оранжереи превратился в бушующее, нечитаемое белое полотно. Ветер выл в трубах старого замка, словно разъярённый зверь, когда мы оказались заперты в оранжерее №4, отрезанные от всего мира магическим предохранителем и наметённым за считанные секунды сугробом, наглухо заблокировавшим дверь.
Первые несколько минут мы молча метались в кромешной темноте, натыкаясь на холодные горшки с сонными растениями. Затем, словно по безмолвному согласию, рождённому отчаянием, мы оба замерли на месте, прислушиваясь к рёву стихии снаружи.
— Люмос, — произнёс я хрипло, и моя палочка дрогнула в руке, вырывая из мрака дрожащий, мягкий свет.
Свет упал на неё. Наши взгляды встретились в этом внезапном освещении, и в них, как вспышка молнии, вспыхнула память о той тёмной нише. И потом, так же быстро, почти инстинктивно, мы оба погасили этот огонь, отвели глаза, не в силах выдержать его жар. Говорить об этом было невозможно.
— Дрова, — сказала она, и её голос прозвучал неестественно громко и отрывисто. — В углу. И... одеяла. Должны быть.
— Да, — коротко, почти неразборчиво кивнул я, уцепившись за указание, за любой повод отвлечься.
Мы двигались как два призрака в полумраке, тщательно избегая не только прикосновений, но и взглядов. Наши действия были чёткими, на удивление слаженными, но лишёнными всякой эмоциональности, как будто мы выполняли отработанный годами список действий. Мы нашли грубые, пахнущие дымом и травами шерстяные пледы. Я с помощью заклинания развёл небольшой, но жаркий огонь в старом медном чане. Тёплый, дрожащий, живой свет заполнил пространство, отбрасывая на стены гигантские, пляшущие тени.
Она села на грубую деревянную скамью у самой стены, втянув ноги. Я, после неловкого колебания, сел рядом, но оставил между нами тщательно отмеренную дистанцию — достаточную для ещё одного человека. Мы укутались в пледы, как в доспехи, создавая физический барьер там, где эмоциональный уже был непроходим и мучителен.
Мы уставились на огонь, избегая смотреть друг на друга, но ощущая присутствие друг друга с такой болезненной остротой, что это было почти физической болью. Каждый треск полена, каждый наш сдавленный вздох отдавался оглушительным эхом в этом напряжённом молчании.
— Метель... — начала она, и её голос дрогнул, выдав нервное напряжение. Она быстро прочистила горло. — ...похоже, надолго.
— Да, — согласился я, мои глаза прикованы к языкам пламени, как будто в них была заключена вся мудрость мира. — Похоже.
Снова молчание, ещё более тягостное. Авари потянула плед плотнее вокруг своих плеч, и я видел, как её пальцы сжимают грубую ткань. Я машинально сделал то же самое, чувствуя колючую шерсть на своей коже, пытаясь сосредоточиться на этом ощущении, а не на ней.
— Мандрагоры, — сказал я внезапно, кивнув в сторону тёмных стеллажей, где спали волшебные растения. — Они... не пострадают от этого холода?
— Нет, — она покачала головой, и я уловил в её голосе лёгкую, благодарную нотку за эту нейтральную, безопасную тему. — Они в глубокой спячке. Зимний анабиоз. Они даже... не заметят бури.
— Хорошо, — прошептал я, и моё собственное облегчение было почти осязаемым.
И снова тишина опустилась на нас, мягкая и удушающая. Мы пытались, искренне, отчаянно пытались говорить о погоде, о растениях, о чём угодно. Наши голоса звучали плоско, безжизненно, как у плохих актёров, заучивших скучный, никому не нужный текст.
Я рискнул, наконец, взглянуть на неё украдкой. В колеблющемся свете огня её лицо было напряжённым, губы плотно сжаты. Она была так близко. Я мог бы протянуть руку и коснуться. И одновременно — так недоступно далеко, как одна из тех звёзд, что мы видели.
Она чувствовала мой взгляд на себе, я видел, как мелкая дрожь пробежала по её плечу под пледом. Она хотела обернуться, я видел это в лёгком движении её головы. Хотела сказать... что? Я не знал. Извиниться за ту ночь? Обвинить меня во всём? Признаться в чём-то? Или просто... посмотреть?
Вместо этого её губы разомкнулись, и она произнесла, глядя в огонь:
— В Ильверморни... у нас были такие метели. Даже хуже. Целые недели порой.
— Да? — мой голос прозвучал заинтересованно, искренне, потому что это была часть её, крупица её прошлого, которой она делилась.
— Да. Мы... мы играли тогда в шахматы. Много, — она закусила губу, и я понял, что она уже пожалела о сказанном. Это прозвучало так... лично. Так по-домашнему.
— Я не очень силён в шахматах, — признался я, и в моём голосе прозвучала лёгкая, нервная усмешка, самое первое подобие эмоции за весь вечер.
— Я могла бы... научить, — слова выскочили у неё сами, стремительно и необдуманно, прежде чем она успела их остановить.
Я замер. Она замерла. Это крошечное, хрупкое предложение, повисло в тёплом воздухе между нами, опасное и невероятно заманчивое. Оно было не только шахматах. Оно было о будущем. О возможности.
— Возможно... однажды, — я ответил очень тихо, мой взгляд снова приковался к пляшущим языкам пламени, как будто я боялся, что если посмотрю на неё сейчас, это предложение испарится, как дым.
Наш разговор умер снова, но на этот раз тишина, что опустилась на нас, была иной. Менее напряжённой, тяжёлой, но не невыносимой. Мы позволили ей быть. Мы просто сидели рядом, закутанные в свои колючие пледы, слушая, как воет ветер снаружи и трещат, отдавая тепло, поленья в чане. Мы не касались друг друга, между нами всё ещё лежала та самая дистанция. Но наше молчание, наше разделённое, вынужденное ожидание, стало новой, странной формой интимности.
Когда через несколько долгих часов метель наконец утихла, оставив после себя хрустальную, звенящую тишину, и дверь поддалась, мы вышли из оранжереи.
Авари
Ледяная корка под ногами хрустнула с громким, хрустальным звуком, словно специально подстроившись. Я, потеряв равновесие на коварной тропинке, ведущей от оранжереи к замку, сделала неловкий, спотыкающийся шаг в сторону, и моя нога резко поехала вперёд, выписывая неуклюжий пируэт на льду. Сердце на мгновение ушло в пятки, оставив в груди пустоту, прежде чем сильные, уверенные и на удивление быстрые руки схватили меня за плечи, стабилизируя с такой лёгкостью и точностью, будто ловили не взрослую женщину в тяжёлом зимнем плаще, а падающее с ветки перо.
Я замерла, мои пальцы, одетые в тонкие перчатки, инстинктивно вцепились в его предплечья, ощущая под грубой тканью мантии твёрдые, напряжённые мышцы, живую силу, что так легко удержала меня. Моё дыхание перехватило, но не от страха падения или боли. От близости, от внезапности этого движения, от памяти другой моей потери равновесия, там, в Хогсмиде, и его рук, что тогда не удержали, а увлекли за собой в сугроб.
Теодор не отпускал меня сразу. Он держал меня так, давая мне время обрести почву под ногами не только физически, но и внутренне. Его захват был уверенным, но не сковывающим. И затем, он усмехнулся. Тихая, сдержанная, но совершенно подлинная усмешка, от которой в уголках его глаз легли лучики мелких морщинок.
— В этот раз, — произнёс он, и его голос звучал низко, почти интимно, — я поймал. Без... последующих акробатических этюдов.
Это была прямая, смелая отсылка к тому вечеру в Хогсмиде, к нашему общему, неловкому и в чём-то даже комичному падению. Это было напоминание о прогрессе. О том, что мы оба изменились с тех пор.
Я не отпрянула, не вырвалась, не сделала вид, что это ничего не значит. Я смотрела на него, чувствуя, как тепло разливается по моим щекам, пробиваясь сквозь холод, но не от стыда или смущения. От признания этой эволюции. От... лёгкости, с которой он теперь говорил об этом. От той странной свободы, что появилась между нами.
Мои собственные губы дрогнули в ответной улыбке, небольшой и немного неуверенной, словно забывшей, как это — улыбаться ему просто так, но настоящей, идущей из самой глубины.
— Прогресс, несомненно, заметен, мистер Нотт, — сказала я, и мой голос звучал мягче, теплее, потеряв привычные профессорские нотки. — Вы становитесь настоящим экспертом по спасению падающих преподавателей. Возможно, вам стоит вручить медаль за свои заслуги.
Он задержал мой взгляд на секунду дольше, и в его глазах мелькнуло что-то тёплое, нежное, прежде чем он осторожно, нехотя, разжал пальцы и отпустил мои плечи. Его пальцы слегка задержались на ткани моего плаща, скользнув по шерсти, как будто не хотел терять контакт полностью, оставляя на прощание лёгкий, почти неосязаемый след.
— Практика делает всё совершенным, — ответил он с лёгкой искоркой в глазах.
Я выпрямилась, поправила складки плаща, ощущая, как под его толстой тканью бешено колотится сердце.
— Что ж, я надеюсь, это не станет вашим постоянным хобби, — парировала я, изогнув бровь в напускном, профессорском неодобрении, пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией и над своим тоном.
— Не могу обещать, профессор, — он ответил, и его усмешка стала шире, открытой, почти мальчишеской. — Лёд в Хогвартсе — общеизвестно непредсказуемое вещество. А вы, кажется, обладаете талантом находить самые коварные его участки.
Мы стояли так несколько секунд на заснеженной, безлюдной тропинке, и холодный воздух вокруг, казалось, искрился с новой, живой энергией, исходившей от нас обоих. Прежнее напряжение, то тяжёлое, гнетущее молчание, что висело между нами в оранжерее, трансформировалось, переплавилось в этой короткой, лёгкой перепалке. Оно не исчезло, стало тоньше, острее. Теперь в нём было не только необъяснимое притяжение и старый, глубоко сидящий страх, но и ясное осознание нашей общей, запутанной истории, нашего роста, нашей новой, удивительной возможностью шутить над этим, играть словами.
Он сделал шаг назад, давая мне пространство, физическое и психологическое.
— После вас, — сказал он, кивнув в сторону освещённых окон замка, его голос снова приобрёл лёгкую формальность, но в ней уже не было прежней холодной дистанции.
Я кивнула, коротко и просто, и пошла вперёд, ощущая его взгляд на своей спине, тёплый, как солнечный луч в морозный день.
Тео
С тех пор как лёд на тропинке перестал быть просто физической преградой и превратился в хрупкую, зыбкую метафору всего, что происходило между нами, в моей жизни началась новая, тихая, отточенно-опасная игра. Игра, правила которой мы никогда не обсуждали вслух, но оба понимали с полуслова, с одного взгляда, с едва заметного изменения в ритме дыхания. Это был танец, где каждый шаг был и приближением, и отступлением, и вызовом, и ответом.
Наши встречи в библиотеке стали первыми па в этом танце. Я сидел за столом в самом дальнем, пыльном углу, погружённый в изучение фолианта по древним рунам, но всё моё существо было настороже, как струна. И тогда она появлялась. Будто бы случайно. Её тень падала на страницу, а затем её рука тянулась к книге с полки прямо надо мной. Рукав её мантии, мягкий и тёплый, слегка, почти эфемерно, задевал моё плечо.
— Простите, мистер Нотт, — она говорила шёпотом, который проникал прямо под кожу.
— Ничего страшного, профессор, — я отвечал, не поднимая глаз от текста, в котором буквы давно уже превратились в бессмысленные закорючки. Всё моё внимание, каждая клетка, была сконцентрирована на той точке касания, на крошечном тепле, что проникал через слои ткани и разливался по моему телу жгучей волной.
Мы задерживались в этой позе на секунду дольше, чем было необходимо. Затем она уходила, унося с собой книгу, которая, я был уверен, была ей не нужна, и оставляя меня наедине с бешено колотящимся сердцем и абсолютной невозможностью воспринимать хоть слово из написанного на странице.
Я начал искать её на прогулках, сознательно выбирал маршруты вдоль замёрзшего озера, где она иногда бродила с дымящейся кружкой в руках, наверняка погружённая в размышления о будущих учебных планах. Я не подходил близко, не смел. Просто шёл на почтительном расстоянии, и в определённый момент наши взгляды встречались через морозный, хрустальный воздух. Я позволял себе тогда крошечную, почти незаметную улыбку, которую никто, кроме неё, не увидел бы. Она в ответ подносила кружку к губам, скрывая свою собственную улыбку, но я видел, как смягчались, теплели уголки её глаз, и этого было достаточно, чтобы согреть меня изнутри на несколько часов.
Однажды я решился на больше. Она стояла неподвижно, смотря на бескрайнюю, матовую гладь замёрзшего озера, и я остановился буквально в шаге от неё, чувствуя, как напряглось всё её тело, уловив моё присутствие.
— Прекрасный вид для размышлений, — произнёс я тихо, мой голос был ровным и спокойным, но внутри я чувствовал себя балансирующим на острейшем лезвии ножа, где с одной стороны была её благосклонность, а с другой — ледяная стена отчуждения.
Она не обернулась, но я увидел, как её плечи, бывшие до этого жёсткой линией, чуть расслабились.
— И опасный, — ответила она так же тихо. — Лёд коварен. Может... увлечь за собой, если не соблюдать осторожность. — Она сказала это нейтрально, будто констатируя погодный факт, но в её словах было то самое двойное значение.
— Некоторые риски стоят того, — парировал я, мои глаза прикованы к её профилю, к изгибу щеки, тронутой морозным румянцем.
Она наконец повернула ко мне голову, и в её взгляде был настоящий вызов.
— Вы так считаете?
— Я в этом уверен, — я ответил, держа её взгляд, не позволяя себе дрогнуть, впитывая каждую деталь её лица в этом зимнем свете.
Мы простояли так ещё минуту, может, две. Наши дыхания вырывались в морозный воздух и складывались в облачка, соединяясь вместе, становясь одним целым, прежде чем исчезнуть. Затем она кивнула, коротко, больше себе, чем мне, как будто что-то окончательно решив, и медленно, не спеша, пошла прочь, оставив меня стоять одного.
Мы не касались друг друга, не говорили ни о чём запрещённом. Наши слова были о погоде, о книгах, о магии, о самых обыденных вещах. Но каждое слово, каждая интонация были закодированным посланием. Каждый взгляд — прикосновением, более жгучим, чем любое физическое. Каждая случайная встреча в коридоре, каждый пересёкшийся маршрут — назначенным свиданием, о котором договорились без слов.
Я знал, что и она играет в эту же игру. Я видел, как она иногда, проходя мимо, чуть замедляет шаг. Как её взгляд ищет меня в Большом зале. Как она наряжается, и мне хотелось верить, что она переживает, замечу ли я новое платье или едва уловимую перемену в шлейфе её духов.
Для меня это была самая захватывающая дуэль в моей жизни. Дуэль намёков, полутонов, недосказанности. Я наслаждался каждым её ответным ходом, тем, как эта сильная и умная волшебница позволяет себе играть в эту запретную игру со мной, позволяет себе отвечать на мой вызов.
Авари
Тишина в Зале Древних Рун была особенной, не похожей на гробовое безмолвие библиотеки. Она была насыщенной шепотом веков, что исходил от фолиантов, чьи потёртые кожаные переплёты хранили дыхание забытых заклинателей и угасших цивилизаций.
Я знала, что он здесь. Знала это ещё до того, как моя рука легла на массивную дверную ручку.
И он был там, сидел за одним из столов, почерневших от времени, полностью погружённый в изучение развёрнутого перед ним свитка, испещрённого причудливыми, загадочными символами. Его поза была сосредоточенной, но не напряжённой, как бывало раньше. Он не делал вид, не играл роль усердного ученика — он был по-настоящему, глубоко поглощён процессом, и в этой новой, спокойной увлечённости была его невероятная, зрелая притягательность.
Я позволила себе несколько лишних, украденных секунд наблюдать за ним незамеченной. Видеть, как свет скользит по его тёмным, непослушным волнам, выхватывая отдельные пряди. Как его длинные, изящные пальцы с заботливой аккуратностью проводят по пожелтевшему пергаменту, боясь повредить хрупкий материал.
Я сделала шаг, и старый пол под ногой громко скрипнул, разрывая заколдованную тишину.
Он поднял голову. Не резко, не испуганно, а медленно, будто возвращаясь из далёких, пыльных миров в настоящее.
— Профессор, — его голос был низким, бархатным и чуть хриплым, идеально резонируя с вековой тишиной зала, наполняя её новым, живым смыслом.
— Мистер Нотт, — я кивнула, подходя ближе к столу, мои пальцы сами потянулись в поисках опоры, скользнув по шершавым корешкам древних книг на ближайшей полке. — Заметки по сравнительному анализу защитных рун Скандинавии и Древнего Египта? — Я бросила беглый, профессиональный взгляд на развёрнутый свиток, хотя видела лишь расплывчатые линии.
— Пока лишь робкая попытка, — он слегка, по-новому усмехнулся. — Египетские руны, должен признать, куда более... коварны. Они не столько защищают, сколько маскируют атаку под защиту. Очень изобретательно.
— Как и почти всё в египетской магии, —ответила я, и мои губы сами, против воли, потянулись в ответную, лёгкую улыбку. — Иллюзия — их главное и самое изощрённое оружие.
— Искусство обмана, — он произнёс тише, и его взгляд, тяжёлый и внимательный, скользнул по моему лицу, будто выискивая, проверяя реакцию на это двусмысленное утверждение.
— Искусство выживания, — поправила я мягко, но твёрдо, держа его взгляд, не позволяя ему уйти. — В мире, полном опасностей, иногда только иллюзия может дать шанс.
Мы говорили о древних рунах, о мёртвых цивилизациях, но каждое слово были закодированным посланием о нас самих. О нашей собственной иллюзии, о нашем тонком, дрожащем балансе между правдой и обманом, который мы так яростно охраняли.
Я облокотилась о край стола рядом с ним, осторожно, не нарушая его личного пространства, но сократив дистанцию ровно для того, чтобы чувствовать исходящее от него живое тепло, ощущать его как физическое присутствие. Я видела крошечную, почти незаметную родинку у него на шее, чуть выше накрахмаленного воротника мантии, видела, как двигается его кадык, когда он сглатывает.
— Вот здесь, — он вдруг провел указательным пальцем по одному из сложных символов, и его палец оказался в считанных сантиметрах от моей лежащей на столе руки. — Видите? Кажется, что это классический щит, но если посмотреть под этим углом... это ловушка.
Я наклонилась чуть ближе, чтобы разглядеть указанное место, и мои волосы, выбившиеся из укладки, легким облаком коснулись его руки. Он замер, будто поражённый током. Никто из нас не дёрнулся, не отодвинулся, мы оба застыли в этом моменте.
— Да, — прошептала я, чувствуя, как моё собственное дыхание стало глубже, громче. — Ловушка. Очень... изящная. И безжалостная.
Мы оба смотрели на пергамент, но не видели ни чернил, ни символов. Весь наш мир сузился до этого сантиметра, отделяющего мою кожу от его, до этого общего сбившегося ритма дыхания.
Я понимала всё безумие происходящего. Осознавала каждый градус риска. Видела тень возможной катастрофы. Но в этот вырванный из времени момент ничто не имело значения — ни должности, ни правила, ни прошлое. Ничего, кроме этой тихой, волнующей, головокружительной интимности. В этот миг я была не профессором Квелл, а просто женщиной, открывающей сложную, глубокую, красивую душу, и — что было страшнее — позволяющей своей собственной, давно запертой душе быть увиденной, быть прочитанной, как этот древний свиток.
Он первый нарушил заклинание, разорвал чары. Он медленно отодвинул руку со свитка и откинулся на спинку своего стула, впуская между нами снова прохладный воздух зала.
— Думаю, мне потребуется еще несколько дней, чтобы как следует разобрать этот раздел, — сказал он, и его голос звучал немного сдавленно, выдавая напряжение, которое он пытался скрыть.
— Всякое истинное знание требует времени, — я выпрямилась, ощущая, как по коже пробегает холодок там, где секунду назад грело его близкое тепло. — И терпения. Много терпения.
— И того, и другого, — он посмотрел на меня прямо, и в его глазах я прочитала уже не ученическое рвение, а тихую, железную решимость человека, который видит цель и готов ждать столько, сколько потребуется, — у меня, профессор, достаточно.
Я кивнула, развернулась и вышла, не оглядываясь, не позволяя себе этого. Но я знала, что он смотрит мне вслед. Я чувствовала его взгляд на своей спине, на затылке, как физическое прикосновение.
И весь оставшийся день, через лекции, через разговоры с коллегами, я чувствовала на своей коже память того несостоявшегося прикосновения, а в ушах звучал его низкий голос, говоривший о коварстве, иллюзиях и искусстве выживания.