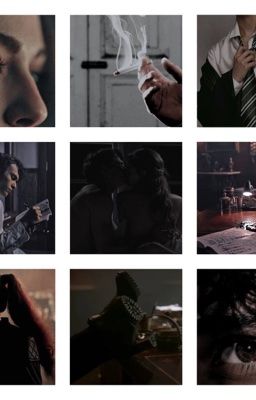Преданность
Тео
Большой зал преобразился до неузнаваемости. Он был похож на декорацию к самой изысканной сказке: ледяные скульптуры, вырезанные заклинаниями, переливались всеми цветами радуги в свете тысяч парящих свечей, с заколдованного потолка мягко сыпался искристый, не тающий снег, а воздух был густ и сладок от ароматов корицы и жареных яблок. Всюду кружились пары, звенел смех, лилась музыка — живой, пульсирующий поток веселья.
А я стоял в тени высокой колоннады, чувствуя себя чужим, призраком на этом пиру. Я был островком тишины и тьмы в самом центре сияющего моря. Моё тело было напряжено, а взгляд, словно компас, откалиброванный на одну-единственную точку, беспокойно скользил по залу, отсекая всё лишнее.
И тогда я увидел её.
Авари вышла из-за длинного преподавательского стола. Она была в длинном платье цвета тёмного, почти ночного изумруда. Ткань, мягко переливаясь, облегала каждую линию её фигуры, и при каждом её движении вспыхивали крошечные искры, будто в глубине камня. Её рыжие волосы, обычно свободно лежащие на плечах, были убраны в элегантную, сложную причёску, открывая изгиб шеи, а на шее сверкало простое серебряное колье — единственное украшение, которое лишь подчёркивало её собственную, не нуждающуюся в дополнениях красоту.
Она замерла на мгновение на краю танцпола, её взгляд скользил по залу, словно кого-то ища. И в этот самый момент луч света от канделябра упал на неё, озарив её, как прожектор на сцене. Она превратилась в живое воплощение праздника, звенящей ночи, недосягаемого и совершенного. Я застыл, забыв дышать. Это было не просто восхищение, к которому я привык. Я всегда видел в ней силу, интеллект, стальную волю, опасность, но сейчас, с абсолютной ясностью, я увидел её красоту. Ту самую, что заставляет сердце сжиматься и останавливаться.
Тело уже сделало шаг в её сторону, движимое неконтролируемым порывом, как моё ухо, настроенное на малейшие диссонансы, уловило обрывок разговора неподалёку. Двое семикурсников из Слизерина, Грэхем и Уоррен, прислонились к стене, их лица расплылись в самодовольных ухмылках, а глаза блестели от выпитого огневиски и похабного, грязного возбуждения.
— ...глянь только на неё, — сипел Грэхем, и его взгляд, масляный и липкий, ползал по Авари, как слизняк по чистому стеклу. — Говорил же, что американки тёлки горячие... Наверняка под этим платьем даже белья нет. Хотел бы я проверить.
— Держи пари, — Уоррен хрипло рассмеялся, доставая из кармана мантии маленький стеклянный пузырёк с мутноватой розовой жидкостью, от которой у меня похолодела кровь. — На двадцать галлеонов, что сегодня она покатается на мне верхом. Один глоток этого «Эликсира Венеры» — и она будет молить, чтобы её трахнули в первом попавшемся чулане. Она сама расстегнёт мои штаны.
— Идёт! — Грэхем жадным взглядом проводил за пузырьком. — Только давай по-честному. Кто первый её достанет, тот и забирает ставку...
Их грязный, пьяный смех врезался в прекрасную музыку. Я застыл. Лёд пробежал по моим жилам, сменившись приливом всепоглощающей ярости, что у меня потемнело в глазах и в ушах зазвенело. Весь праздничный шум отступил, остались только их голоса и бешеный стук моей крови в висках.
В моей голове, будто вспышка света, возникли кристально ясные образы: её лицо, искажённое страхом там, на башне. Её доверчивая, тихая улыбка за чашкой рождественского сидра. Её уязвимость на утро после, когда она не смотрела мне в глаза. Всю эту хрупкость, всю эту незащищённость, которую они, эти свиньи, хотели осквернить, изнасиловать их грязным, подлым зельем.
В тот миг я не видел в ней объект своего старого, больного желания. Я видел человека. Человека, который был мне дорог. Которого я должен был защитить любой ценой.
Моё тело двинулось само, прежде чем мозг успел отдать хоть какой-то приказ.
— Уоррен, — мой голос прозвучал тихо, почти интимно, но с такой спокойной, режущей интенсивностью, что оба слизеринца вздрогнули, как от удара, и резко обернулись. — Что это у тебя?
Уоррен, оправившись от неожиданности, ухмыльнулся, пытаясь вернуть себе наглость.
— Нотт! Присоединяешься к пари? Место есть, — он потряс перед моим лицом проклятым пузырьком, и капли розовой жидкости забулькали внутри.
Я не ответил на ухмылку. Я медленно, не сводя с Уоррена глаз, подошёл так близко, что почувствовал запах виски от его дыхания. Он невольно отступил, прижавшись спиной к холодной каменной стене.
— Я спросил, что это, — повторил я, и в моём голосе зазвенела смертельная, не оставляющая сомнений опасность.
— Да отстань, Нотт, не порть веселье, — буркнул Грэхем, но в его голосе слышалась неуверенность, трусливая попытка отстраниться.
Я проигнорировал его, словно он был пустым местом. Мой взгляд был прикован к пузырьку в руке Уоррена.
— Ты собираешься подлить это профессору Квелл? — спросил я с ледяной, почти вежливой чёткостью.
— А тебе-то какая разница? — Уоррен попытался выпрямиться, вернуть себе наглость, но его выдал нервозный, бегающий взгляд. — Ты что, её рыцарь в сияющих доспехах? Рехнулся, что ли?
В ответ я двинулся так быстро, что Уоррен не успел даже моргнуть. Моя рука молнией выхватила пузырёк из его неплотно сжатых пальцев. В следующее мгновение я прижал его к стене, уперев ему предплечьем в грудь так, что он ахнул.
— Слушай меня очень внимательно, — прошипел я, и моё лицо было в сантиметрах от его, от его перекошенного от страха и глупой ярости лица. — Если ты или кто-либо другой подойдёте к ней сегодня ближе, чем на три метра, если я увижу хоть каплю этой дряни в её бокале, если я услышу ещё одно грязное слово в её адрес... — я сделал паузу, позволяя моим словам осесть в воздухе между нами. — Ты узнаешь, на что на самом деле способна магия Ноттов. И тебе не понравится то, что ты узнаешь. Ясно?
Я не повышал голос, но в моём тихом, ровном, почти бесстрастном шепоте было столько неоспоримой, обещающей невыразимой боли и разрушительной мощи, что Уоррен побледнел, как полотно, и лишь быстро, испуганно кивнул, не в силах вымолвить ни слова.
Я отступил, сунув зловещий пузырёк в карман своей мантии и бросил короткий, оценивающий взгляд на Грэхема, тот поспешно, трусливо отвёл глаза, уставившись в свои ботинки.
Не сказав больше ни слова, я развернулся и растворился в пёстрой, шумящей толпе, оставив двух потрёпанных и напуганных слизеринцев у стены. Моё сердце бешено колотилось, вырываясь из груди, но не от страха или адреналина. Оно билось от кристальной, холодной ясности. Я знал, что должен делать. Я буду её тенью сегодня, её невидимым, безмолвным щитом. Я позволю ей танцевать, улыбаться, сиять, быть той ослепительной женщиной, которой она была сегодня. И я сделаю всё, чтобы никто и ничто не посмело омрачить её вечер, не посмело прикоснуться к тому свету, что исходил от неё.
Я снова стал тем, кто наблюдает из тени. Но на этот раз — не для того, чтобы жадно впитывать каждую деталь, питая свою одержимость, а для того, чтобы охранять.
Авари
Весь вечер я чувствовала его взгляд на себе. Это было не то навязчивое, гипнотическое присутствие, что висело над моим плечом в первые месяцы, заставляя кожу покрываться мурашками, это было бдительное, охраняющее. Куда бы я ни двинулась по залу, в сияющем водовороте музыки и смеха, на самом краю моего поля зрения мелькала его высокая, напряжённая фигура. Он не приближался, не пытался поймать мой взгляд или заговорить. Он просто был там, как тень, отбрасываемая движущимся светом, как безмолвный страж.
Сначала это вызывало у меня лёгкое, знакомое раздражение, смешанное со свежим, ещё не зажившим смущением. Неужели он не может просто оставить меня в покое? Дать нам обоим то необходимое пространство, которое было так отчаянно нужно после той гнетущей, неловкой тишины, что повисла между нами утром после Рождества?
Но затем моя проницательность уловила нечто иное в его поведении. Он не смотрел на меня с тем старым, пожирающим желанием или щемящей тоской. Его осанка была собранной, как у солдата перед боем, плечи — напряжёнными, а взгляд, который я ловила мельком, когда он думал, что я не вижу, был острым, сфокусированным и... яростным. Он не сканировал комнату в поисках меня, он выискивал кого-то другого. Что-то было не так.
Тревога зашевелилась где-то внутри меня, тонким, холодным червячком, заползающим под кожу. Я попыталась отогнать её, погрузившись в веселье, ни к чему не обязывающие разговоры с Флитвиком о новых мелодиях для хора и со Спраут о зимних удобрениях для мандрагор, но навязчивое ощущение не покидало меня. Он был настороже, и эта настороженность, я чувствовала это каждой клеткой, была связана со мной.
Когда бал пошёл на спад, шум начал стихать, и я, уставшая от вынужденной, притворной веселости, решила, что с меня достаточно, и направилась к выходу, это чувство лишь усилилось. Я шла по тихим, полуосвещённым коридорам, где лишь изредка мерцали факелы, и мои шаги отдавались гулким, одиноким эхом в каменных сводах. И ещё одни шаги — чуть тише, чуть сзади, выверенно попадая в ритм, — вторили моим собственным.
Я не оборачивалась, не ускоряла шаг, хотя инстинкт подсказывал бежать. Я просто шла, слушая, как расстояние между нами медленно, неумолимо сокращается. Моё сердце начало биться чаще, тяжёлыми, глухими ударами, но не от страха, а от странного подозрения, что сейчас что-то произойдёт. Что стена молчания будет наконец прорвана.
Наконец, свернув в более узкий и тёмный коридор, ведущий прямо к моим апартаментам, я остановилась.
— Теодор, — сказала я тихо, не оборачиваясь, мой голос прозвучал твёрже, чем я чувствовала себя на самом деле. — Хватит ходить за мной по пятам. В чём дело?
Я слышала, как он замер, затаив дыхание. Затем раздался его голос, хриплый, сдавленный, будто ему было физически больно выталкивать слова из себя.
— Вам... лучше не идти одной.
Я медленно, очень медленно обернулась. Он стоял в нескольких шагах от меня, его лицо было почти полностью скрыто в глубокой тени, падающей от ниши в стене, но бледный лунный свет, струящийся из высокого арочного окна, выхватывал напряжённую, резкую линию его скулы.
— Почему? — спросила я, инстинктивно скрестив руки на груди, и шёлк моего платья мягко зашуршал, единственный нежный звук в этом напряжённом противостоянии.
Он сделал шаг вперёд, выйдя из тени. И тогда я увидела его глаза. Они горели тёмным, почти чёрным огнём. В них не было и намёка на то смущение или неловкую застенчивость, что висели между нами последние несколько дней. Была только нефильтрованная, кипящая ярость и что-то дикое, первобытное.
— Потому что есть люди, — его голос был низким, словно рычание, — которые сегодня видят в вас не профессора. Даже не женщину. А... цель.
Он выдохнул, и его дыхание сложилось в облачко, висящее в морозном воздухе между нами.
— Я слышал их разговор. Они... — он запнулся, его челюсть напряглась так, что я увидела, как двигаются мышцы, как будто ему было противно, физически омерзительно произносить эти слова вслух. — Они спорили. Кто из них... кто получит вас этой ночью. У одного из них было... зелье.
Его слова повисли в воздухе коридора, тяжёлые, грязные, оскверняющие всё вокруг. Я почувствовала, как по моей спине, под тёплым шёлком платья, пробежали ледяные мурашки. Но это был не страх за себя — с подобными угрозами я знала, как справляться. Это было от того, с какой немой, сокрушительной яростью он это говорил. От того, как его руки всё ещё были сжаты в кулаки, сухожилия натянуты, как струны, будто он всё ещё физически удерживал себя от того, чтобы броситься на кого-то и разорвать в клочья.
Я смотрела на него — на этого юношу, этого почти мужчину, который всего несколько дней назад с такой неловкой нежностью прикасался к моей щеке, а теперь стоял передо мной, дрожащий от немого гнева, защищая мою честь, мою безопасность с решимостью дикого зверя.
В груди что-то сжалось — больно, до слёз, и в то же время сладко, до головокружения.
— И что же ты собирался делать? — спросила я тихо, мой голос дрогнул, выдав потрясение. — Проводить меня до комнаты как джентльмен?
Он опустил глаза, и огромная часть того напряжения, что держало его, наконец спало с его плеч, сменившись внезапной, глубокой истощённостью, будто он только что провёл часы в изматывающей битве.
— Я не знаю, — признался он, и его голос снова стал молодым, сломленным и уязвимым, каким я слышала его лишь несколько раз. — Я просто... не мог позволить этому случиться. Не мог...
Он не договорил, не смог или не посмел. Но я поняла без слов. Не мог после всего, что было между нами. Не мог после той ночи. Не мог, потому что... потому что я для него что-то значу.
Мы дошли до моей двери в напряжённом молчании. Я вставила ключ в замок, и мои пальцы подрагивали, но не от страха перед неудавшимся нападением, а от внутренней бури, которую спровоцировали в моей душе его слова, его ярость, его... его преданность.
Я открыла дверь и зашла внутрь, в знакомую, тёмную тишину моих апартаментов, автоматически ожидая, что он останется в коридоре, что мы обменяемся парой ничего не значащих, смущённых фраз, и на этом всё закончится. Но когда я обернулась, чтобы попрощаться, мой взгляд упал на его лицо, и слова застряли у меня в горле.
Он стоял на пороге, буквально на самой границе, не решаясь переступить черту без приглашения. Но всё его существо было обращено не ко мне, а в тёмную, зияющую пустоту коридора позади него. Его плечи были по-прежнему напряжены, а в глазах, в которых ещё недавно бушевала ярость, теперь читалась не успокаивающаяся, живая тревога. Он не верил, что простая деревянная дверь — достаточная защита. Он не верил, что мы в безопасности, даже здесь, за толстыми стенами замка.
— Теодор, всё в порядке, — сказала я, и мой голос прозвучал устало и приглушённо. Я провела рукой по лицу, чувствуя, как подушечками пальцев стираю остатки румян и макияжа, а вместе с ними — и последние силы спорить, отстаивать свои границы или казаться сильной и неуязвимой. От меня не осталось ничего, кроме этого странного, щемящего, почти болезненного чувства благодарности. — Они не посмеют. Никто не посмеет.
— Вы не знаете их, — его голос прозвучал глухо, будто из-под земли. Он всё ещё смотрел в темноту. — Я знаю. Они пьяны, они наглы, и они... они видели вас сегодня. Такой. — Он коротко, почти болезненно кивнул в мою сторону, не в силах описать словами. — Они не отступят так легко. Они будут считать, что у них есть право.
Он наконец перевёл на меня взгляд, и в его глазах была такая забота и глубокая, почти отчаянная потребность оберегать.
Я вздохнула, долгим, сдавленным вздохом, и мои плечи опустились под тяжестью накопившейся усталости. Стены рухнули. Окончательно и бесповоротно.
— Хорошо, — прошептала я, отступая вглубь комнаты, в мягкую тень. — Останься, наложи чары, сделай... что считаешь нужным. Я не могу больше, не могу спорить.
Я видела, как его глаза широко раскрылись от шока. Он ожидал сопротивления, отпора, холодного «спасибо, я справлюсь сама», а не приглашения, основанного на абсолютном, безоговорочном доверии, которое родилось во мне внезапно и стихийно.
Он кивнул, коротко и деловито, без лишних слов, молча переступил порог, и дверь закрылась. Его движения сразу же стали собранными, лишёнными прежней неловкости. Он вытащил палочку, и его лицо приняло то сосредоточенное, отрешённое выражение, которое я видела только на самых сложных, продвинутых уроках, когда он полностью погружался в магию.
И он начал творить. Он шептал заклинания, одно за другим, его голос был глубоким и ровным, без единой дрожи. Он рисовал палочкой в воздухе перед дверью сложные, витиеватые узоры, и они на мгновение вспыхивали золотым, серебряным или холодным синим светом, прежде чем раствориться. Я слышала, как он накладывает «Защиту от взлома», усиливая её до максимума, «Сторожевой щит», который отреагирует на малейшее враждебное намерение, «Звонковую сигнализацию» и ещё с полдюжины других, куда более сложных и изощрённых чар — некоторые из них пахли древней, почти забытой магией.
Я наблюдала за ним, прислонившись к косяку спальни, и не могла оторвать глаз. Я видела, как концентрация углубляет морщинку между его бровей, как его челюсть напрягается от усилия. Он был прекрасен в своей сосредоточённости, неукротимой силе. И в этот момент, в полумраке моей гостиной, он был не учеником, он был волшебником. Опытным, сильным, и направляющим всю свою мощь на одну-единственную цель — мою защиту.
Усталость накатывала на меня волнами, густыми и тёплыми, смывая последние остатки напряжения. Напряжение бала, эмоциональная встряска нашего разговора в коридоре, а теперь и это — вид его, такого серьёзного, решительного и полностью отдавшегося своей миссии, — всё это переполнило меня, и я сломалась. Мои веки стали тяжёлыми.
Я медленно, почти как во сне, на ощупь прошла в спальню и опустилась на кровать, не в силах даже снять это роскошное, давящее теперь платье. Я лишь сбросила туфли, почувствовав холод паркета под босыми ногами, и натянула на себя мягкий плед, который всё ещё хранил запах нашего общего Рождества.
Я лежала, повернувшись лицом к дверному проёму, и сквозь опущенные, слипающиеся веки видела его силуэт — высокий, тёмный, статный, на фоне мягкого, приглушённого света из гостиной. Я слышала его тихое, настойчивое бормотание, шелест его одежды, когда он двигался по комнате, проверяя окна.
И это не было страшно. Не было тревожно или неловко. Это было... безопасно. Впервые за долгие-долгие годы, с тех пор как я осталась одна на этом свете, я чувствовала себя абсолютно безопасно. Как за каменной стеной. Как в крепости, которую охраняет самый верный из стражей.
Моё дыхание выровнялось, стало глубоким и медленным, сливаясь с ритмом его шёпота. Последнее, что я запомнила перед тем, как погрузиться в пучину сна, — это его шаги, тихие, осторожные и уверенные, на мягком ковре в гостиной, и всепоглощающее чувство, что кто-то сильный и безраздельно преданный бдит над моим покоем. И это чувство, эта уверенность, была слаще, мощнее и надёжнее любого самого сильного защитного заклинания в мире.
Тео
Первые лучи утра были бледными, словно крадущимися воришками. Они робко пробивались сквозь щели в тяжёлых шторах, раскрашивая комнату в полосатые, сизо-серебристые тона. Утреннюю тишину нарушало лишь ровное, глубокое, мерное дыхание, доносящееся из спальни. Дыхание Авари. Оно было тихим ритмом, под который билось моё сердце всю эту долгую ночь.
Я не смыкал глаз. Ни на мгновение.
Я сидел в глубоком кресле напротив запертой, зачарованной и надёжно защищённой двери, моя спина была прямой, но не одеревеневшей от напряжения. Это была собранная, осознанная поза. Моя палочка лежала у меня на коленях, и мои пальцы время от времени сжимали её знакомую, тёплую рукоять, будто проверяя её готовность. Я не ворочался, не искал удобного положения. Моё наблюдение не было мучительной пыткой или вынужденной необходимостью, оно было осознанным выбором. Самым важным решением, которое я принимал в своей жизни.
Я прислушивался к каждому шороху за дверью, к отдалённому скрипу старых балок замка, к чьим-то приглушённым шагам в другом конце коридора, к далёкому, меланхоличному уханью совы где-то за окном. Мои рецепторы были обострены до предела, каждый нерв был оголён, но внутри меня, в самой глубине, царила странная, кристальная, почти неземная ясность. Весь хаос моих чувств — та старая, больная одержимость, слепая ярость, сжигающее смущение, всепоглощающее желание — всё это отфильтровалось в этой ночи и осело на дно, как муть в отстоявшейся воде.
Время текло медленно, не по часам, а по едва уловимым изменениям в комнате — по тому, как удлинялись и укорачивались тени, как менялся оттенок серого за шторами, по ритму её дыхания из спальни. Я знал тот момент, когда её сон стал глубже и спокойнее, когда она перевернулась на другой бок, и шёлк платья мягко зашуршал, а она, сонная, укрылась глубже нашим общем пледом. Я слышал тихий, почти детский, беззащитный вздох, который она издала во сне.
И с каждым таким звуком, с каждым часом, что я проводил, сидя в этой тишине и охраняя её покой, что-то внутри меня затягивалось, заживало и укреплялось. Моя собственная, выстраданная за годы броня, та, что треснула под напором её слёз и окончательно разбилась её доверием, снова срасталась. Но уже иначе. Она больше не была нужна, чтобы защищать меня самого от мира, она была нужна, чтобы защищать её. И в этом была вся разница.
Я думал о тех двух идиотах, Уоррене и Грэхеме. Моя ярость поутихла, остыла, превратившись в холодное, презрительное отвращение. Они были просто мухами, назойливо жужжавшими вокруг чего-то святого и прекрасного, чего они никогда не смогут понять и чью истинную ценность никогда не смогут постичь. Они были фоном, шумом. А я... я сидел в её комнате, дышал одним с ней воздухом, и мне было позволено это не потому, что я что-то завоевал, вырвал силой или выманил хитростью. А потому, что она... доверилась. Открыла дверь и впустила меня в своё святилище.
Когда комната наконец-то начала светлеть по-настоящему, сизая мгла за окном стала разбеливаться, я поднялся с кресла. Мои мышцы, затёкшие после долгой неподвижности, протестовали тупой, ноющей болью, но я игнорировал её, отодвинул в сторону, как нечто незначительное. Я подошёл к окну и раздвинул тяжёлые портьеры всего на сантиметр. Замок был погружен в предрассветную, безмолвную синеву, застывшую и невероятно прекрасную в своей чистоте.
И тогда я услышал, как позади меня, в спальне, её дыхание изменилось, стало более поверхностным, осознанным. Она просыпалась.
Я не обернулся, продолжал смотреть в узкую щель в окне, давая ей время прийти в себя, время понять, где она, и вспомнить всё, что произошло прошлой ночью. Я не хотел пугать её своим видом, своим внезапным появлением в её личном пространстве с самого утра, не хотел разрушать хрупкий мир, что царил в комнате.
Я слышал, как она села на кровати, как мягко зашуршал шёлк и шерсть пледа. Слышал её тихий, сонный, глубокий вздох — звук пробуждения и возвращения к реальности.
И только тогда, выждав ещё несколько секунд, я медленно, очень плавно обернулся.
Она сидела на краю кровати, в своём великолепном, теперь помятом платье цвета тёмного изумруда. Её рыжие волосы выбились из сложной вчерашней причёски и мягкими, живыми волнами обрамляли её лицо — усталое, бледное, без единой капли косметики. И она смотрела на меня не со страхом, не со смущением или неловкостью, её взгляд был ясным, спокойным, глубоким и... бездонно, до слёз, благодарным.
Мы молча смотрели друг на друга в чистом свете наступающего утра. Слова были бы здесь лишними, грубыми, они только осквернили бы эту тишину. Всё, что нужно было сказать, уже было сказано за долгие часы моего ночного бдения.
Я видел, как её взгляд, ясный и спокойный, скользнул по зачарованной двери, по моей палочке, всё ещё зажатой в моей руке, и затем медленно, не спеша, вернулся к моему лицу. И в её глазах не было вопроса, не было оценки или проверки, было глубокое, бездонное понимание всего того, что я сделал. И того, чего это стоило мне. Она видела не результат, а процесс, видела ночь, что я провёл в этой комнате, охраняя её сон.
— Ты... — её голос был хриплым от сна, тихим, как шелест шёлковых простыней. — Ты не спал.
Я просто покачал головой, не в силах вымолвить ни слова. Какие слова могли бы что-то добавить?
Она медленно, с той же усталой грацией, поднялась с кровати. Дорогое платье мягко обвисло на ней, подчеркнув изгибы её тела и ту усталость, что была в каждом её движении. Она не поправила его, не побежала к зеркалу, чтобы привести себя в порядок. Она осталась передо мной такой, какая была — растрёпанной, беззащитной, настоящей.
Она сделала несколько шагов через комнату, и каждый её шаг по старому паркету отдавался во мне тихим, гулким эхом, будто её босые ноги ступали не по дереву, а по самой поверхности моего сердца. Она остановилась передо мной, не близко, но и не далеко, на расстоянии вытянутой руки.
— Спасибо, — прошептала она. И это было не просто вежливое слово. Это был целый океан чувств, перелитый в одно-единственное слово. Благодарность за эту тихую, ничего не требующую, ничего не ожидающую ночь.
Её рука поднялась, остановилась в воздухе на мгновение, застыв в нерешительности, и потом её пальцы — тёплые, живые — легко, почти невесомо коснулись тыльной стороны моей руки, всё ещё сжимающей палочку.
Я вздрогнул, но не отстранился. Мои пальцы рефлекторно разжались, и палочка почти выпала из моей внезапно ослабевшей руки. Я не мог оторвать взгляд от её пальцев на моей коже, от этого разительного контраста между её нежностью и моими напряжёнными, уставшими сухожилиями.
— Меня не за что благодарить, — наконец выдавил я. — Я... я просто не мог иначе.
— Именно за это и спасибо, — она улыбнулась, и в уголках её глаз собрались лучики морщинок, а в самой улыбке была лёгкая грусть, словно мы оба понимали всю тяжесть и необходимость этого «не мог иначе».
Её пальцы легко, почти по-дружески сжали мою руку и затем она отпустила, отняла свою ладонь. Но на моей коже осталась память её прикосновения — жгучая и нежная одновременно, как шрам от исцелённой раны.
Она отвернулась, и её силуэт заслонил от меня окно. Она пошла к маленькому кухонному уголку.
— Я приготовлю кофе, — сказала она, и её голос снова приобрёл те лёгкие, знакомые нотки, что я слышал на уроках, но теперь они были мягче, лишёнными былой профессорской строгости. — Кажется, сегодня он нам обоим нужен.
Я остался стоять посреди комнаты, наблюдая, как она двигается в луче утреннего солнца. Свет обнял её силуэт, выхватывая из полумрака рыжие пряди волос и линию плеч. И в этот момент я видел не профессора Квелл, а просто женщину. Сильную, уставшую, одинокую и... и позволившую мне быть рядом. Допускающую моё присутствие в своём утреннем ритуале.
Авари
Аромат свежемолотых кофейных зёрен, густой, почти осязаемый, начал медленно вытеснять остатки ночной тишины в комнате. Он смешивался с устойчивым запахом хвои от ёлки и пыльным, сладковатым духом старых книг. Я чувствовала взгляд Тео на себе, тяжёлый и заворожённый, когда я переоделась в простые тёмные брюки и мягкий, объёмный свитер, и теперь управлялась с кофеваркой. Моя верная, блестящая маггловская машина урчала и шипела на столе, как маленький, довольный зверёк, извергая струйку чёрного, ароматного золота в стеклянный колбу.
Он не удержался.
— Что это... за аппарат? — его голос всё ещё был немного сиплым, простуженным от долгого ночного молчания, и в этой хрипоте было что-то до боли уязвимое.
Я обернулась, и улыбка сама собой коснулась моих губ. После вчерашнего напряжения, после той бури эмоций, этот простой, бытовой вопрос был как глоток свежего воздуха. Утренний свет, мягкий и прощающий, ласково касался его лица, и я видела, как он смывает следы усталости, но оставляет новую, непривычную серьёзность в уголках рта.
— Это кофеварка, — объяснила я, постукивая пальцем по прохладному металлическому корпусу, чувствуя подушечкой лёгкую вибрацию. — Маггловская. Моя маленькая, неизлечимая слабость, привезла из Нью-Йорка. Ни одно заклинание не даёт такого... такого насыщенного, честного вкуса.
Он смотрел на устройство с искренним, детским изумлением, которое он, казалось, давно забыл, как проявлять. Я видела, как его глаза скользили по проводам, кнопкам, стеклянной колбе. Он видел сложнейшие магические артефакты, держал в руках древние свитки, но этот простой механический ящик, работающий на чистой физике, без единой искры магии, вызывал у него странное, неподдельное восхищение.
— Они... магглы... создали такое? — он не смог скрыть лёгкое, почтительное неверие в голосе, и это было не высокомерие, а настоящий шок от столкновения с неизвестным.
Улыбка на моём лице непроизвольно стала шире, и в груди что-то ёкнуло — тот самый знакомый огонёк, что зажигается, когда видишь, как в глазах ученика вспыхивает искра настоящего, неподдельного интереса.
— Они создали много чего, Теодор, — сказала я мягко, поворачиваясь к нему и облокотившись на край стола, чувствуя его прохладу даже через ткань свитера. — У них нет магии, поэтому их наука и технологии развивались иными, порой куда более извилистыми и изощрёнными путями. — Я сделала паузу, глядя на него, пытаясь прочитать в его глазах, готов ли он, хочет ли он принять эту новую, пугающую своей простотой истину. — Некоторые их изобретения... они могут дать магии фору.
Он слушал, и я буквально видела, как в его голове что-то щёлкает, как старые, проржавевшие шестерёнки сдвигаются с места. Все эти годы внушённых стереотипов, вся эта спесь чистокровного волшебника сталкивались с неоспоримым доказательством — с этим урчащим, невероятно эффективным устройством, которое вот-вот даст ему напиток, возможно, куда более бодрящий, чем любой магический эликсир. И затем, внезапно, словно тень от пролетевшей за окном птицы, по его лицу пробежала волна смущения. Яркий румянец залил его щёки, шею, даже кончики ушей. Он резко отвёл взгляд, уставившись в пёстрый узор персидского ковра, и я заметила, как напряглись его плечи.
И я поняла мгновенно — в его памяти всплыл тот самый образ. Розовый. Изогнутый. Лежавший на моей тумбочке в ту роковую ночь, когда он ворвался сюда, одержимый и потерянный. Его смущение было таким густым, что его почти можно было потрогать.
— Да, — выдавил он, и его голос прозвучал неестественно громко и надтреснуто, пытаясь пробиться через стену стыда. — Я... я полагаю, я был слишком предвзят. Возможно, я многого о них не знаю.
Я чувствовала его дискомфорт почти физически. Он ждал намёка, колкости, неловкого молчания, ждал, что я воспользуюсь моментом, чтобы уколоть, чтобы напомнить ему о его прошлом безумии.
Но когда я заговорила снова, мой голос был намеренно спокоен и тёпл, как этот утренний свет. В нём не было ни капли насмешки или смущения.
— Со всеми нами такое случается. Мир гораздо шире, сложнее и интереснее, чем кажется из стен родового поместья или даже из самых величественных коридоров Хогвартса. — Я намеренно отвернулась к кофеварке, сделав вид, что проверяю, не готов ли кофе, давая ему время и пространство собраться с мыслями, отдышаться, прийти в себя. — Сахар? Молоко?
Эта маленькая ложь, это притворство, что я не заметила его бури, было актом милосердия. И чем-то большим. Актом принятия. Я не стала вытаскивать его стыд на свет, тыкать в него носом, я просто... позволила ему быть смущённым. Позволила этому чувству быть, и показала, что это не имеет значения, что он может быть несовершенным, смущённым, и это нормально.
Я увидела, как волна облегчения, почти осязаемая, прошла по его телу. Его плечи чуть опустились, спало напряжение в шее. Он медленно, почти нерешительно, поднял на меня взгляд, и я в это время наливала тёмный, ароматный кофе в две простые керамические кружки. Мои движения были плавными, привычными, абсолютно естественными в этой странной, новой утренней реальности.
— Молоко, — прошептал он, и в его голосе слышалась уже не хрипота, а какая-то новая, тихая уверенность. — Пожалуйста.
Я кивнула, и уголки моих губ снова дрогнули в улыбке.
Тео
Я держал свою кружку обеими руками, вжимаясь в её шершавую керамическую поверхность, чувствуя, как живительное тепло медленно проникает в мои озябшие за ночь пальцы, разливается по ладоням. Я делал маленькие, осторожные глотки, будто боялся расплескать это хрупкое мгновение. Напиток был крепким, обжигающе горьковатым, с глубоким, насыщенным вкусом, который не был похож ни на что из того, что я пробовал раньше. Это был вкус... другого мира. Мира, о котором мне рассказывали лишь вскользь, с насмешкой или с предвзятым пренебрежением, мира, который я всегда считал неполноценным. Но этот вкус был настолько яростно настоящим, так полнокровно живым, что все те предрассудки вдруг показались мне плоской, блёклой картинкой.
Я смотрел на неё через край своей кружки. Она сидела, поджав под себя ноги в глубоком кресле, обхватив свой стакан длинными, изящными пальцами и смотря в окно на просыпающийся замок. Солнце золотило рыжие пряди её волос и мягко касалось её щеки, выхватывая из полумрака крошечные, почти невидимые веснушки. Она выглядела спокойной, почти умиротворённой. И в этом умиротворении, в этой расслабленности, была какая-то новая, глубокая, ошеломляющая красота, куда более настоящая и ценная, чем вся её вчерашняя, ослепляющая вечерняя элегантность.
Я позволил себе просто смотреть на неё. Без вечного внутреннего анализа, без тлеющего желания, без сковывающего страха. Просто наблюдать, как она существует в этом утреннем моменте, как частица этого мира. Я видел лёгкую, тёмную усталость вокруг её глаз, те самые крошечные морщинки, что обычно скрывались под слоем макияжа или маской профессорской собранности. Я видел, как её губы, мягкие и бледные без помады, касаются края кружки, и как она слегка, почти по-кошачьи, зажмуривается от удовольствия, делая небольшой глоток.
И внутри себя я чувствовал... покой. Странный, немыслимый, почти пугающий своим совершенством покой, накрывавший меня после всех бурь и штормов, что бушевали во мне долгие месяцы. Вся моя предвзятость, все выстроенные мною стены, вся та больная одержимость, что пожирала меня изнутри — всё это казалось теперь таким детским, таким ничтожным и далёким перед простой, тихой реальностью этого утра: она, я, два стакана кофе и поднимающееся над замком солнце.
Я больше не хотел её разгадать, как сложную головоломку, не хотел покорить, как неприступную крепость. Я даже не хотел хватиться ею, как сокровищем. Я просто... принимал её присутствие, как данность, как необъяснимое, хрупкое и прекрасное чудо.
— Спасибо, — снова сказал я, на этот раз тише, почти шёпотом.
Она перевела на меня взгляд, и её глаза были такими же ясными и чистыми, как зимнее небо за окном.
— За кофе? — спросила она, и в глубине её изумрудных глаз промелькнула лёгкая, понимающая игра.
— За всё, — я ответил просто, не отводя глаз, позволяя ей видеть всё, что было в них — и благодарность, и уважение.
Она держала мой взгляд несколько долгих секунд, затем она мягко улыбнулась, по-настоящему.
— Тебе тоже, — прошептала она так тихо, что я скорее угадал по движению губ, чем услышал. — За компанию.
Мы допили свой кофе в тишине, но это уже не была та тяжёлая, неловкая тишина прошлых дней, что резала по живому.
И когда я поднялся, чтобы уйти, мои ноги были твёрдыми, а сердце — лёгким. Я не чувствовал ни щемящей боли, ни горечи потери. Я чувствовал... начало чего-то нового, чего-то взрослого, настоящего и по-настоящему ценного.
Авари
Я осталась стоять посреди комнаты, всё ещё ощущая призрачное тепло керамической кружки в своих ладонях и... его присутствие. Оно не испарилось вместе со звуком его шагов, оно осталось, наполнив воздух, — тяжёлое, плотное, почти осязаемое. Воздух, казалось, всё ещё вибрировал от него — от отзвука его тихой, несгибаемой силы, от эха его смущения, от той пугающе искренней честности, что он принёс с собой в это утро и оставил здесь, как самый дорогой дар.
Я медленно, почти на ощупь, обошла комнату, и мои пальцы сами потянулись к спинке того самого кресла, в котором он просидел всю ночь. Дерево под подушечками пальцев было прохладным, но мне почудилось, будто я чувствую исходящее от него глубинное, накопленное за долгие часы тепло — впитавшийся жар его тела и концентрацию. Я присела в это кресло, втянула ноги и обхватила колени, как делала это в далёком детстве, когда нужно было почувствовать себя в безопасности, спрятаться в маленьком, надёжном коконе.
Он сидел здесь всю ночь.
Не для того, чтобы что-то получить. Не для того, чтобы что-то доказать или потребовать награду. А просто чтобы... гарантировать мою безопасность и покой. С той абсолютной, самоотверженной, почти рыцарской преданностью, о которой я читала только в пожелтевших романах и которую никогда не испытывала на себе в реальной, взрослой, полной предательств жизни.
Я закрыла глаза, позволяя образам проноситься перед внутренним взором, как кадрами старой киноленты. Его ярость вчера вечером — не собственническая, не истеричная, а холодная, сфокусированная. Его смущение сегодня утром — не манипулятивное, не притворное, а искреннее, человеческое, трогательное. Его готовность признать свою неправоту о магглах... Его уязвимость, которую он, такой гордый и закрытый, позволил себе показать.
Я всегда видела в нём силу. Тёмную, опасную, притягательную, как бездонный омут. Но сейчас, сквозь призму этой ночи и этого утра, я увидела нечто иное, куда более редкое и ценное. Благородство. Не надетое как маска, а естественное, глубокое, вышедшее из самых потаённых, самых лучших недр его существа, словно алмаз, рождённый под чудовищным давлением.