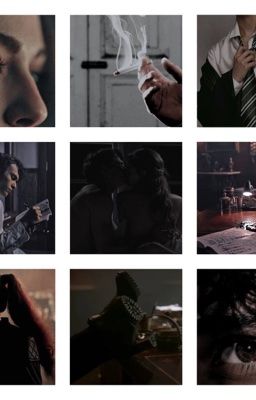Рождество
Тео
Предрождественское утро застало Хогвартс в состоянии непривычной, почти священной пустоты. Большинство студентов разъехались, и величественные коридоры замерли в безмолвии, нарушаемом лишь скрипом старых портретов да шелестом заснеженных ветвей за окнами. Я, один из тех немногих, кто предпочёл остаться, брёл по заснеженным тропам, вдыхая морозный воздух. Снег скрипел под подошвами ботинок, оставляя за мной чёткие, одинокие следы. Я наслаждался этим покоем, этой призрачной тишиной, в которой можно было, наконец, услышать собственные мысли.
Завернув за угол, я почти столкнулся с ней.
Авари стояла, застигнутая врасплох, с большой картонной коробкой в руках, которая казалась непозволительно громоздкой и земной для её обычно безупречного облика. На ней был простой свитер, и в нём она выглядела моложе, уязвимее.
— О! Мистер Нотт, простите, я вас не заметила.
Её голос вырвал меня из оцепенения.
— Ничего страшного, профессор, — я автоматически отступил на шаг, давая ей дорогу, чувствуя, как по спине пробежал старый, знакомый холодок.
Но она не прошла. Она колебалась, перекладывая коробку из рук в руки, в её глазах читалась нерешительность, какая-то детская растерянность, совершенно ей не свойственная.
— Вы... не заняты, случайно? — спросила она, и в её голосе прозвучала неуверенность, тонкая, как паутинка. — Мне нужна помощь с одной... вещью. Но если вы...
— Конечно, — я согласился моментально, даже не спросив, о чём речь. Старая, глупая привычка, тот самый рефлекс, что заставлял меня бросаться на её зов, сработал на автопилоте, прежде чем сознание успело выстроить барьер.
Я последовал за ней по безлюдным, звенящим тишиной коридорам к её апартаментам. Когда она открыла дверь и впустила меня внутрь, меня охватило странное, почти болезненное чувство дежавю, смешанное с лёгкой, животной паникой. Я снова здесь. Снова в её личном пространстве, где воздух пахнет её духами. Память о том последнем визите, о той розовой, стыдной штуковине на прикроватной тумбочке, ударила в виски, заставив кровь прилить к лицу. Я почувствовал себя снова тем глупым, неловким мальчишкой, задыхающимся от собственных запретных мыслей.
И тогда я заметил углу гостиной, у самого камина, где огонь весело потрескивал, стояла небольшая, но пушистая ёлка в кадке. Она была ещё совсем голая, тёмно-зелёная, почти чёрная в тени, и лишь изредка на её ветках поблёскивали, как слезы, капельки застывшей смолы.
Авари, заметив мой взгляд, с лёгким смущением поставила коробку на пол рядом с деревом.
— Вот... собственно, в чём дело. — Она открыла крышку, и оттуда повеяло запахом хвои, старого дерева и далёкого, беззаботного детства. В коробке, аккуратно перевязанные мягкой тканью, лежали ёлочные игрушки. Не блестящие новодельные безделушки, а старые, немного потрёпанные временем, но явно любимые, хранимые. Стеклянные шары с потускневшей позолотой, деревянные фигурки, вырезанные неумелой рукой, гирлянды из пожелтевшей, но всё ещё яркой бумаги. — Не смогла заставить себя украсить её одной. Слишком... тихо.
Я смотрел то на одинокую, тёмную ёлку, то на эту сокровищницу воспоминаний в коробке, то на её слегка растерянное лицо, озарённое огнём камина, и моё собственное смущение начало медленно таять, как иней на стекле.
— Вы хотите... чтобы я помог? — уточнил я, всё ещё не веря происходящему. Это было слишком по-домашнему.
— Если вы не против, — она улыбнулась неловко, коротко и смущённо, пожимая плечами. — Считайте это... возмещением ущерба за тот случай в Хогсмиде.
Я кивнул, не в силах найти слов, опустился на колени перед коробкой, чувствуя прохладу пола сквозь ткань брюк, и достал первый попавшийся шарик — хрупкий, стеклянный, расписанный вручную золотыми звёздами, которые уже слегка облупились.
— Вы же могли сделать это заклинанием, — не удержался я, чтобы не спросить, вращая шарик в пальцах, боясь его раздавить. — Быстро и идеально.
Авари, взяв в руки бумажную гирлянду, бережно, как реликвию, покачала головой.
— Нет. Это... традиция. Мои родители... они всегда украшали ёлку вот так. Вручную. Вместе. — Она говорила тихо, её голос сливался с потрескиванием поленьев. — Каждая игрушка здесь имеет свою историю. Этот шар, например, — она кивнула на тот, что был у меня в руках, — я сделала на своё первое Рождество в Ильверморни. Он... не очень удачный, кривоватый, но они его хранили. Всегда вешали на самое видное место.
Я смотрел на этот несовершенный, кривобокий шар, потом на её лицо, на котором играл мягкий свет от камина, и что-то во мне, какая-то последняя защитная стена, дрогнула и рухнула. Вопрос вырвался сам собой, без фильтра, без моей обычной осторожности, голый и прямой.
— Почему же вы тогда не уехали к ним на праздники? Почему... украшаете ёлку здесь со мной?
И сразу же пожалел о сказанном. Увидел, как её лицо изменилось. Лёгкая, смущённая улыбка исчезла, будто её сдуло ветром, взгляд стал отстранённым, она опустила глаза на гирлянду в своих руках.
Тишина затянулась, густая и тяжёлая, нарушаемая лишь потрескиванием огня и гулким биением моего сердца в ушах.
— Они погибли, — наконец произнесла она очень тихо. — Три года назад. Авария в Министерстве. Они были там... не в то время.
Она подняла на меня глаза, и в них не было слёз, не было истерики. Была лишь тихая, привычная, въевшаяся в самое нутро, в самую душу печаль. Та, с которой уже смирились, но которая никогда не уходит.
— Так что эта ёлка... и эти игрушки... это всё, что у меня осталось от наших Рождеств.
Я замер, сжимая в ладони стеклянный шар, ощущая его холод и хрупкость. Всё моё нытьё, мои подростковые терзания, моя одержимость, мои попытки казаться тёмным и сложным — всё это внезапно показалось мне таким мелким, таким незначительным и глупым перед этим огромным, настоящим горем, которое она носила в себе всё это время, пока я строил из себя трагического героя. Она не была для меня просто красивой, недоступной профессоршей, объектом моей больной страсти. Она была человеком со своей огромной, неподъёмной болью, со своей тихой, одинокой историей.
Я молча кивнул, не находя слов. Никакие слова здесь не были нужны, они были бы оскорблением. Затем, очень осторожно, чтобы не раздавить, чтобы не осквернить эту память, я повернулся к ёлке и повесил шар, её шар, на самую крепкую, самую красивую ветку, которую смог найти.
— Он висит идеально, — сказал я, и мой голос прозвучал неожиданно нежно.
Авари посмотрела на меня, и в её глазах появилась искра бездонной благодарности. За то, что я не стал выражать соболезнования. За то, что не попытался обнять её или как-то утешить. За то, что просто... принял её боль и продолжил вешать игрушки. Стал частью её тихого ритуала памяти.
— Спасибо, — прошептала она, и в этом слове был целый мир.
И мы продолжили. Я брал из коробки одну игрушку за другой, и Авари тихо, доверяя мне самое сокровенное, рассказывала историю каждой.
— Этого ангела папа вырезал из куска сосны, когда у него сломалась палочка, а я плакала, что у нас не будет украшений... А эти орехи мама раскрашивала в полночь, пытаясь меня уложить спать, а я притворялась спящей и подсматривала...
Её пальцы, холодные от прикосновения к старому картону, ненадолго задержались на моей руке, передавая не только деревянную фигурку, но и целый шквал эмоций — тепло давно ушедшего дня, щемящую грусть, и живую, трепетную память. По моей спине пробежали мурашки, но не от холода, а от осознания доверия, которое она мне оказывала. Я взял фигурку с нежностью, которой обычно окружал лишь древние, хрупкие фолианты в запретной секции библиотеки, и тщательно, интуитивно находя идеальное место ближе к вершине, повесил её.
Я, в свою очередь, молча указал на потёртого стеклянного ангела с отбитым крылом. Вопрос читался в моих глазах.
— А это... это разбилось, когда мы с папой затеяли битву на подушках прямо в гостиной, — она улыбнулась, и в этой улыбке, печальной и светлой одновременно, была целая вселенная — беззаботного смеха, родительской любви и неизбежной, жестокой потери. — Мама потом склеила его, но крыло... крыло так и не нашли. Говорила, что теперь у нас ангел... уникальный.
Её голос был ровным, без дрожи, но в нём, в самых его низких нотах, слышалась глубокая, затаённая, выстраданная нежность, смешанная с океаном грусти. Я слушал, зачарованный, полностью поглощённый. Я видел перед собой не строгую профессоршу, а девочку, которая скучала по своему отцу, по своей матери. Девочку, которая пыталась сохранить их память в этих хрупких, ничтожных вещах.
Я вешал игрушки с неожиданной для себя, почти болезненной аккуратностью. Мои длинные пальцы, обычно такие уверенные и быстрые в сложнейших заклинаниях, теперь двигались медленно, бережно, с почтительным трепетом обходя хрупкие крылья ангелов и тонкие, рвущиеся нити бумажных гирлянд. Я ловил её взгляд, когда наши руки случайно касались в глубине коробки, и в этих мимолётных, ничего не значащих прикосновениях не было прежнего электрического напряжения, той тяги, что обжигала и пугала. Было что-то новое. Хрупкое, как крыло ангела. Бережное. Человеческое.
Я смотрел на неё, на игру огня в её рыжих волосах, на бездонную грусть в её зелёных, как летний лес, глазах, и моё сердце сжалось от признания её тихой, несгибаемой силы. От внезапного, ослепляющего понимания, сколько боли она несёт в себе все эти годы, и как грациозно, с каким достоинством она с этим справляется, продолжая учить, продолжать жить.
Когда коробка, наконец, опустела, а ёлка засияла в переливающемся свете камина и нескольких настоящих восковых свечей, которые она зажгла вместо волшебных гирлянд, мы отступили на шаг, чтобы полюбоваться нашей работой. Она была не идеальной, немного асимметричной, некоторые ветки провисали под тяжестью шаров. Но в этой неидеальности, в этой рукотворности была своя, живая, дышащая красота. Авари стояла так близко, что я чувствовал исходящее от неё тепло и лёгкий, едва уловимый, но теперь такой знакомый запах её духов — бергамот, и что-то сладкое, возможно ваниль, как в рождественском печенье.
— Красиво, — тихо сказал я. И говорил я не только о ёлке. Я говорил о моменте. О ней.
Авари стояла рядом, и в мерцающем свете огней её лицо казалось мягче, все маски профессорской строгости окончательно растаяли. Слёзы, наконец, выступили на её глазах, но она не отводила взгляд. Они текли по её щекам молча, медленно, не искажая её, лишь делая ещё более живой и настоящей.
— Они бы вас одобрили, — вдруг сказал я.
Она посмотрела на меня, и в её взгляде, в этой влажной зелени, была такая глубокая, такая бездонная, такая оглушительная благодарность, что у меня перехватило дыхание.
— Думаете?
— Знаю, — я ответил твёрдо, без тени сомнения. — Потому что я бы одобрил.
Я не осознавал, что говорю, пока эти слова не сорвались с моих губ. Но я не жалел. Не чувствовал ни смущения, ни страха. Это была чистая, кристальная правда.
— Спасибо, Теодор, — она прошептала, глядя на огни, и её плечо мягко, почти невесомо касалось моей руки. — За то, что остались. За то, что... напомнили. Я... я не думала, что смогу сделать это снова. Одной.
Я не ответил. Слова были бы лишними, грубыми. Вместо этого я медленно, давая ей каждую секунду, каждую долю секунды, чтобы отстраниться, чтобы остановить меня, протянул руку и коснулся её пальцев, всё ещё сжимавших обрывок той самой бумажной гирлянды. Моё прикосновение было лёгким, как дуновение, вопросительным.
Она вздрогнула, тонкая дрожь пробежала по её руке, но она не отдернула её. Она повернула голову и посмотрела на меня, и в её глазах не было страха, не было запрета или былой настороженности. Была лишь тихая, усталая открытость, полное растворение всех барьеров.
И тогда она, медленно, почти не дыша, закрыла последнее расстояние между нами. Не для объятия, не для поцелуя. Она просто подняла руку и кончиками пальцев коснулась моей щеки. Её прикосновение было лёгким, как падающая снежинка, и в то же время жгучим, как раскалённый уголь, оставляющим невидимый след на моей коже, на самой моей душе.
Я наклонил голову, прижавшись щекой к её ладони, чувствуя её тонкое запястье, её пульс, бившийся в такт моему. Я закрыл глаза, вдыхая густой, сложный коктейль запахов — хвои, воска, старого дерева и её духов. В этот миг не существовало прошлого с его болью и ошибками. Не было пугающего, неясного будущего. Было только это тихое, хрупкое, бесконечно ценное настоящее, наполненное до краёв разделённое на двоих болью и этим неожиданным, таким же хрупким утешением.
Я не поцеловал её. Я просто стоял, держа её руку в своей, глядя на её лицо, освещённое огнём камина и тёплым светом рождественских свечей. Это было больше, чем поцелуй. Глубже. Это был момент идеального, хрупкого, молчаливого поднимания. Двух одиноких, израненных душ, нашедших друг в друге, в этой тихой комнате.
Я не знал, что будет позже. Не знал, что это значит для нас, для нашей странной, запутанной истории, но я знал одно. Этот момент, этот тихий, наполненный светом и грустью день навсегда останется во мне — не шрамом, а тёплым, живым светом внутри. Напоминанием не о боли, а о том, что даже в самой глубокой, казалось бы, непроглядной тьме можно найти искру света, тепла и человечности. И иногда, самая неожиданная, самая яркая искра исходит от самого, казалось бы, невозможного человека.
***
Наступил вечер перед Рождеством. Я стоял у окна в своей спальне, глядя на заснеженные, безмолвные просторы, окрашенные в синеву сумерек, и чувствовал, как странное, настойчивое беспокойство гонит меня с места. Оно было не тревожным, а скорее... зовущим. Как тихий, настойчивый зов, который нельзя игнорировать.
Я больше не анализировал, не взвешивал каждое возможное последствие. Та мысль, что родилась днём, в тишине её гостиной, среди запаха хвои и старого дерева, теперь кристаллизовалась во мне в твёрдое, неотвратимое решение. Оно пульсировало в висках, стучало в сердце. Я должен был пойти. Сейчас. Пока холодный рассудок не опомнился. Пока старые страхи не опутали меня снова своими цепкими щупальцами.
Я вышел в пустынный коридор и быстрыми, решительными шагами направился к её апартаментам. Моё сердце колотилось где-то в горле, но это был не страх. Это было сладкое, мучительное предвкушение. Я постучал в знакомую дверь, прежде чем разум успел выкрикнуть «стоп».
Дверь открылась. Авари стояла на пороге. В одной руке она держала книгу, палец был заложен между страниц. Увидев меня, её глаза расширились от неподдельного удивления.
— Теодор? Всё в порядке?
— Встретьте со мной Рождество, — выпалил я, не дав себе возможности подобрать более изящные, более продуманные слова. Они вырвались сами, голые и искренние. — Пожалуйста. Не... не оставайтесь здесь одна.
Я видел, как на её лице, освещённом мягким светом из комнаты, промелькнули десятки эмоций — мгновенный шок, затем глубокая нерешительность, и возможно, проблеск старого страха. Но затем её взгляд упал на меня, на моё самое незащищённое и искреннее выражение лица за всё время нашего знакомства, и что-то в ней дрогнуло. Что-то сдалось.
Тихая, почти неуловимая улыбка тронула её губы.
— А у нас есть выбор? — спросила она мягко, и в её голосе послышалась лёгкая, усталая игра. — Раз уж мы уже начали эту... традицию.
Я вздохнул, не осознавая, что всё это время задерживал дыхание. Воздух снова наполнил лёгкие, холодный и сладкий.
— Значит... да?
— Да, — кивнула она, отступая и впуская меня внутрь. — Да, Теодор.
И тогда началось самое обычное и самое невероятное Рождество в моей жизни.
Мы не говорили о прошлом. Мы не копались в старых ранах. Мы... готовили. Авари, смеясь и слегка краснея, пыталась объяснить мне маггловский рецепт жареной индейки, а я, к собственному изумлению, ловко управлялся с ножом, нарезая овощи ровными ломтиками, будто делал это всю жизнь. Мы вешали последние гирлянды, которые остались на дне коробки, и наши руки снова и снова касались друг друга — случайно, мимоходом. И с каждым разом это прикосновение ощущалось всё более естественным, более правильным, как будто так и должно было быть.
Она включила маггловское радио, старинное, потрёпанное, найденное где-то в её вещах, и тихая рождественская музыка наполнила комнату, смешавшись с треском камина. Мы ели за маленьким столиком и разговаривали не о магии, не о войне, не о боли, что съедала нас обоих. Мы говорили о книгах, которые любили в детстве, о музыке, что трогала душу, о глупых, смешных случаях из нашего детства, далёкого и такого разного.
И с каждым часом, с каждой разделённой улыбкой, с каждым нечаянным прикосновением, та стена между нами — толстая, ледяная стена профессора и студента, жертвы и преследователя, — таяла. Она растворялась в тепле комнаты, в звуках музыки, в тихом понимании, что мы просто два человека.
Позже мы сидели на полу у камина, потягивая тёплый, пряный сидр из глиняных кружек, и смотрели, как языки пламя пожирают поленья.
— Знаете, — тихо сказала Авари, не отрывая взгляда от пляшущих огней. — Я думала, это Рождество будет... трудным. Что я просто пережду его, как бурю.
— И какое оно? — так же тихо спросил я, боясь спугнуть мгновение.
Она повернулась ко мне. В отблесках огня её глаза сияли, как два отполированных зелёных изумруда, и в них не было ни капли печали.
— Неожиданным, — прошептала она. И затем, ещё тише: — Спасибо.
Я не стал отвечать. Слова были бы слишком грубы, слишком малы для того, что витало в воздухе. Я просто протянул руку через короткое расстояние, отделявшее нас, и накрыл её ладонь своей, а она переплела свои тонкие, прохладные пальцы с моими, и это было самым естественным, самым правильным жестом на свете.
Когда часы на башне пробили полночь, возвещающая о наступлении Рождества, мы всё так же сидели на полу перед камином, спиной к дивану, и смотрели на огонь.
— С Рождеством, профессор, — тихо сказал я, поворачиваясь к ней.
— С Рождеством, Теодор, — так же тихо ответила она, и её губы тронула тень улыбки.
И в этот раз, когда наши взгляды встретились в полумраке, никто не отвёл глаз. В моих глазах не было прежней слепой, разрушительной одержимости. В её — прежнего настороженного страха или ледяной стены. Было лишь тихое, трепетное, почти пугающее ожидание того, что должно было случиться. Того, что было неизбежным, как восход солнца после долгой ночи.
Я медленно, давая ей каждую секунду, каждый миг, чтобы остановить меня, чтобы сказать «нет», прикоснулся к её щеке. Мои пальцы были тёплыми от чашки, которую я держал всего полчаса назад.
Она не отодвинулась, не отпрянула. Она прикрыла глаза, и потянулась к моему прикосновению, едва заметно, но безоговорочно.
И тогда я наклонился и поцеловал её.
Это был не поцелуй страсти, не поцелуй, чтобы что-то доказать или взять. Это был медленный, нежный, вопрошающий поцелуй. Я чувствовал лёгкий, сладкий привкус сидра на её губах.
Авари ответила мне. Сначала робко, почти незаметно, а затем с той же тихой, отчаянной нежностью. Её рука поднялась, её пальцы коснулись моей шеи, впуская меня ещё глубже в своё пространство, в свою тишину, в своё одиночество, которое наконец-то перестало быть одиноким.
Когда мы наконец разъединились, чтобы перевести дух, лбы наши по-прежнему были прижаты друг к другу, наше дыхание смешались. Вокруг пахло Рождеством — хвоей, воском, пряностями, и для нас двоих оно наконец-то, по-настоящему наступило. Не идеальное, не сказочное, не такое, как в книгах. Но настоящее. И от этого — самое драгоценное, что у меня когда-либо было.
Авари
Утро после Рождества застало Хогвартс в том же безмолвном, завороженном состоянии. Снег за окном лежал нетронутым саваном, и в коридорах царила гробовая тишина.
Мы проснулись рядом на диване, укрытые одним большим, мягким пледом, сплетённые в неловкой, но на удивление комфортной позе. Его рука была перекинута через мою талию, моя голова лежала на его плече. Первое, что я увидела, открыв глаза — это призрачное сияние ёлки в синеватых предрассветных сумерках. Огоньки отражались в стёклах шаров, как далёкие звёзды. Второе — его лицо. Оно было так близко, что я могла разглядеть каждую ресницу, каждую чёрточку, каждый след усталости, что обычно скрывался за маской холодности.
И мгновенно, будто по мановению невидимой палочки, между нами возникла стена. Не прежняя, из льда и стали, а другая — невидимая, дрожащая, сотканная из чистого смущения.
Мы разъединились так резко, словно нас ударило током, с невнятными извинениями, избегая прямого взгляда, словно он мог нас обжечь. Я поспешила в спальню, притворившись, что мне срочно нужно «привести себя в порядок», хотя на самом деле мне нужно было просто спрятаться. Мои руки дрожали, когда я пыталась провести по волосам, и в зеркале я видела не строгую профессоршу Квелл, а растерянную, раскрасневшуюся женщину с широко раскрытыми глазами.
Слышно было, как он встал с дивана, его шаги зазвучали по полу. Он принялся бесцельно, с преувеличенным усердием собирать пустые кружки из-под вчерашнего сидра, расставлять их на подносе, хотя они и так стояли ровно. Я видела его профиль из-за угла — щёки были покрыты густым румянцем, взгляд упорно блуждал по полу. Мы были как два нелепых подростка после своего первого поцелуя, а не как взрослые, прошедшие через сложную, изматывающую войну эмоций, предательств и боли.
За завтраком, который мы готовили молча, бок о бок, старательно избегая любого, даже случайного касания, витало неловкое, гнетущее молчание.
— Печенье... неплохое получилось, — наконец выдавил он, уставившись в свою тарелку так, словно разглядывал там древние руны.
— Спасибо, — ответила я, уставившись в свою кружку с чаем, как в бездонный колодец. — Ты... хорошо поспал? На диване, я имею в виду. Он не очень удобный.
— Да. Да, нормально, — он прокашлялся. — Ничего.
Мы не говорили о поцелуе. Не говорили о том, как его губы коснулись моих в полночь. Не говорили о том, что это значит. Кто мы теперь друг для друга? Ученик и преподаватель, нарушившие все мыслимые и немыслимые границы? Мужчина и женщина, которых свела вместе случайность? Или просто два одиноких, израненных человека, нашедших друг в друке хрупкое, временное утешение в холодный праздничный вечер?
Мы не знали. И эта неопределённость, висела между нами тяжёлым, неозвученным вопросом, отравляя каждый миг этого утра.
Когда он, наконец, собрался уходить, мы стояли у двери, снова избегая зрительного контакта. Он смотрел куда-то на уровень моего плеча, я — на медную дверную ручку, на которой отражались огни ёлки.
— Спасибо за... за всё, — сказал он, и его голос прозвучал хрипло, неестественно.
— Тебе тоже, — я ответила, и мои слова показались мне жалкими и пустыми. — За компанию.
Он кивнул, коротко и резко, и вышел. Дверь закрылась, и мы оба, по разные стороны от этого деревянного полотна, прислонились к нему — я лбом, он, я почувствовала, спиной. Древесина была прохладной. Мы стояли так несколько долгих секунд, разделённые всего парой дюймов, но ощущая пропасть.
В груди у меня билось что-то тяжёлое и горячее, неуклюжее и живое — густая, удушающая смесь стыда, смущения и какого-то странного, щемящего чувства, которое я отчаянно боялась назвать, опасаясь, что, дав ему имя, я сделаю его реальным.
Я провела ладонью по лицу, по лбу, по щекам, словно пытаясь стереть, смахнуть невидимую пыльцу памяти. Но она въелась в кожу. Память о шероховатости его щеки под моими кончиками пальцев, о тепле его кожи, проступавшей сквозь тонкую ткань свитера, о вкусе на его губах.
Что я наделала?
Вопрос крутился в голове навязчивой, неумолимой мантрой. Я переступила черту. Не просто как женщина, поддавшаяся минутной слабости. Как преподаватель. Я взяла все те правила, все те табу, которые сама же так яростно отстаивала, которые были фундаментом моей профессиональной этики, и разбила их вдребезги одним-единственным, безрассудным поступком.
И самое ужасное, самое постыдное было то, что где-то в самой глубине, под толстым слоем леденящей паники и жгучего стыда, теплился крошечный, живой уголёк. И он не горел раскаянием, он согревал. Это было воспоминание о том, как он смеялся — по-настоящему смеялся, закинув голову назад, — над нашим подгоревшим печеньем. Как его глаза, обычно такие тёмные, закрытые, словно заброшенные колодцы, светились в отблесках ёлочных гирлянд, отражая искорки огня. Как он слушал мои истории о родителях, и в его взгляде не было ни капли снисходительной жалости — было понимание. Такое же одинокое, как моё собственное.
Я оттолкнулась от двери, чувствуя, как подкашиваются ноги, и медленно, будто сквозь густую воду, прошла в гостиную. Комната всё ещё хранила его следы. Воздух был насыщен запахами — имбиря, хвои, воска. Я подошла к ёлке, нашему общему, хрупкому творению, и кончиками пальцев коснулась того самого стеклянного шара, что он повесил — неловкого, кривобокого, сделанного мной в Ильверморни. Мои пальцы предательски дрожали, и шар покачнулся на ветке, заставив моё сердце ёкнуть.
Мы были в ловушке этой внезапной, нелепой, неловкой близости, которая обрушилась на нас, как снежная лавина. Мы не могли говорить об этом — слова были бы слишком грубы, слишком реальны. Мы не могли повторить — это было бы безумием, игрой с огнём. Но мы и не могли забыть. Это было невозможно.
Мы застряли в этом хрупком, подвешенном состоянии, в липкой паутине собственных эмоций, где каждый случайный взгляд в коридоре, каждое мимолётное прикосновение при передаче книги на уроке отныне будет навязчивым напоминанием.
Я закрыла глаза, чувствуя, как по моей щеке, горячей от стыда, скатывается слеза. В этот момент я была больше не непобедимым агентом MACUSA, не всевидящим, строгим профессором Защиты от Тёмных Искусств. Вся моя броня, вся моя выучка, вся моя уверенность рассыпались в прах. Я была просто женщиной. Напуганной, смущённой, растерянной и абсолютно, до глубины души, не знающей, что же делать дальше.
Тео
Я шёл по коридорам обратно в подземелья Слизерина, но мои ноги были ватными, предательски подкашивались, а в ушах стоял оглушительный гул, словно я только что пережил мощный взрыв заклинания где-то совсем рядом. Каждый мой шаг отдавался эхом в звенящей пустоте спящего замка, но громче всего, настойчивее и беспощаднее, звучал бешеный стук моего собственного сердца. Оно колотилось где-то в горле, сжимая его, не давая дышать.
Я чувствовал себя полнейшим идиотом. Глупым, нелепым мальчишкой, который годами жаждал сокровища, и вот, наконец, получив его в руки, растерялся и не знал, что с ним делать, боялся уронить, разбить, испортить. Мой ум, всегда готовый разложить любую ситуацию по полочкам, был теперь пуст и гудел, не в силах родить ни одной связной мысли.
В голове всплывали обрывки, яркие и болезненные, как осколки стекла. Каждая деталь. Как её длинные, тёмные ресницы отбрасывали кружевные тени на щёки в мерцающем свете камина. Как её губы, мягкие и тёплые, дрогнули под моими, сделав крошечную, почти незаметную паузу, прежде чем ответить — ответить так же нежно и неуверенно. Как она во сне, вся сжавшись, прижалась ко мне, ища не тепла, а именно защиты, укрытия, как будто в моих объятиях была единственная безопасная гавань.
А затем, будто ледяной водой окатив, накатывало воспоминание об утре. Её смущённое, раскрасневшееся лицо, взгляд, упорно скользивший мимо меня, избегающий, почти испуганный, её поспешные, ничего не значащие фразы о печенье и о диване.
Я не знал, что чувствовать. Триумф? Нет, это было не похоже на победу. Не было в этом ни капли сладкого вкуса завоевания. Смущение? Да, ещё какое. Оно жгло мне щёки и заставляло сжиматься желудок. Страх? Абсолютный. Гнетущий, парализующий страх всё испортить. Страх увидеть в её глазах в следующий раз не ту самую, хрупкую нежность, что была ночью, а холодное, ясное сожаление. И это было бы в тысячу раз больнее, чем её прежнее презрение.
Я дошёл до гостиной Слизерина. Она была пустая, тёмная и холодная. Портреты на стенах спали, и даже зелёные огни в прозрачных сосудах горели приглушённо, словно в полусне. Я не стал зажигать свет. Просто опустился в ближайшее кожаное кресло, всё ещё хранившее ночной холод, и уставился в тёмный потолок, в котором угадывались лишь смутные очертания герба.
Мы играли в опасную игру. Самую опасную в своей жизни. Игру без правил, без карты, без понятного финала. Мы не могли быть вместе — нас разделяли пропасти возраста, статуса, прошлого. Но мы и не могли быть порознь — эта ночь навсегда связала нас невидимой, но прочной нитью. Мы могли только существовать в этом странном, болезненном, подвешенном состоянии. Украдкой наблюдать друг за другом в толпе, вздрагивать от случайного прикосновения в классе, читать скрытые смыслы в самых обычных словах. И бояться сделать следующий шаг, потому что он мог привести к обрыву.
И самое странное, самое парадоксальное было то, что даже в этой мучительной неопределённости, даже в этой щемящей боли и смущении, было что-то... бесконечно ценное.
Я закрыл глаза, ощущая, как тяжесть век давит на них. Я не знал, что будет завтра. Не знал, как мы будем смотреть друг на друга на уроке Защиты, смогу ли я выдержать её взгляд, не выдав всё, что творится у меня внутри. Но сквозь весь этот хаос и страх я знал одно — я не хотел стирать эту ночь. Не хотел забывать её. Даже с её неловкостью, даже с её страхом, даже с этой горечью на устах после утра. Она была самой настоящей вещью, что случилась со мной за долгие годы.