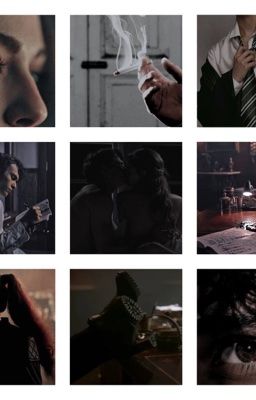Страх
Авари
Осень окончательно вступила в свои права, затянув небо над Хогвартсом сплошным полотном тяжёлых, низких туч, с которых то и дело сыпался мелкий, колючий дождь. В моём кабинете, однако, царила привычная, бодрящая атмосфера напряжённой работы.
Мой взгляд, скользя по рядам, по привычке на секунду задержался на задней парте. Теодор Нотт сидел на своём месте. Но это был уже не тот Теодор, чей взгляд жёг меня изнутри ещё несколько недель назад. Тот огонь, та одержимая, тёмная искра, что пылала в его глазах, потухла. Он был сосредоточен, точен, безупречен в своих ответах, как швейцарские часы. Но в его манере, в самом его существе, было что-то механическое, безжизненное. Он стал идеальным студентом. И самым... незаметным.
Сегодня, после урока, когда последние студенты уже хлынули к выходу, я подняла голос:
— Мистер Нотт, останьтесь на минутку.
Он остановился у самой двери и медленно, без суеты, повернулся. Его лицо, когда-то такое выразительное в своей ярости или боли, теперь не выражало ничего, кроме вежливого, отстранённого ожидания. Ни трепета, ни страха, ни той тлеющей надежды, что я научилась в нём различать.
Я подошла к нему, держа в руках его последнюю работу — сложнейшее, почти диссертационное эссе о тонкостях противодействия ментальным проклятиям. Бумага была испещрена моими пометками.
— Ваша работа, — начала я, и в моём голосе, к моему собственному удивлению, прозвучала неподдельная, чисто профессиональная оценка, без намёка на прежнюю игру или напряжение, — блестяща. Поистине. Глубина анализа, понимание нюансов, которые ускользают от большинства практикующих... это уровень магистра, а не студента-семикурсника.
Я смотрела на него, и в моих глазах, я знала, читалось искреннее, неподдельное, глубокое восхищение. Тот самый взгляд, которого он, я помнила, так отчаянно жаждал ещё месяц назад. Взгляд, признающий его интеллект, его невероятную силу, его уникальный, изощрённый ум. Я предлагала ему то, ради чего, как мне казалось, и затевалась вся эта история — признание.
Теодор молча, почти незаметно кивнул. Его лицо оставалось каменной маской.
— Спасибо, профессор, — его голос был ровным, вежливым и абсолютно, до дна, пустым. В нём не дрогнуло ни единой струны.
Я, кажется, подсознательно ожидала другой реакции. Удовлетворённой, гордой улыбки. Вспышки в глазах. Чего-то... живого. Человеческого.
— У меня есть к вам предложение, — продолжила я, чувствуя, как пол под ногами становится чуть менее твёрдым. — В MACUSA как раз открыта программа стажировок для перспективных молодых специалистов. Исключительно по конкурсу. Я могу написать вам рекомендацию. С вашими способностями... — я запнулась, словно впервые подбирая слова, чтобы до него достучаться, — вы могли бы добиться там многого. Очень многого.
Я протягивала ему то, о чём, как я была уверена, он мог только мечтать. Официальное признание его гениального ума. Прямой путь к блестящей карьере. Моё личное, профессиональное уважение, подкреплённое делом.
Теодор посмотрел на пергамент с его собственной, гениальной работой, затем на мою руку, будто протягивающую ему не просто предложение, а ключ от нового мира. Он медленно, с той же неестественной плавностью, поднял глаза на меня. И в его взгляде не было ни капли благодарности, ни искорки интереса.
— Благодарю вас за предложение, профессор, — сказал он с той же ледяной, безупречной, мёртвой вежливостью. — Это очень лестно. Но я уже определился с планами на будущее. Они не связаны с MACUSA.
Он сделал небольшую паузу, давая своим словам, этому вежливому, сокрушительному отказу, осесть во мне. Я чувствовала, как с моего лица исчезает уверенность, как в глазах, против моей воли, появляется растерянность.
— Если на этом всё? — спросил он, не дожидаясь моего ответа, моего замешательства.
Я молча, не в силах выдавить из себя ни звука, кивнула.
Он ещё раз, коротко кивнул в ответ, развернулся с военной выправкой и вышел из кабинета. Он не оглянулся. Ни разу.
Я осталась стоять посреди пустого, внезапно оглушительно тихого класса, держа в руках его работу и чувствуя странную, непонятную, щемящую пустоту в собственной груди. Я победила. Я сделала всё, что хотела. Я сломила его опасную одержимость, уничтожила его как угрозу. И получила именно то, чего, казалось бы, добивалась — идеального, безупречного, талантливого и абсолютно, тотально безразличного ко мне студента.
Но почему же тогда моя победа ощущалась не как триумф, а как горькое, безвкусное, тяжело лежащее в желудке послевкусие? Почему это ледяное, абсолютное спокойствие, которое я сама же и взрастила, ранило меня сейчас сильнее, чем любая его прежняя страсть, ненависть или манипуляции?
***
Прошли дни. Слова Теодора, произнесённые тем ровным, ледяным, окончательным тоном, продолжали звучать у меня в ушах, навязчивым и унизительным эхом, которое я не могла заглушить даже шумом уроков или собственными командами на тренировках. Я не могла принять это.
И тогда, вопреки всем своим профессиональным принципам, всем внутренним запретам, всем урокам, которые я сама же преподавала о неприкосновенности чужого разума, я сделала это. Я стала искать его мысли.
Сначала украдкой, краем сознания, на своих же уроках. Я направляла свой дар на него, стараясь быть максимально осторожной, невидимой, пока он сидел, безучастно уставившись в запотевшее окно или с той же мёртвой точностью конспектируя лекцию.
И каждый раз я натыкалась на стену.
Не на ту искусственную, выстроенную защиту, за которой когда-то бушевала буря, что я научилась распознавать. Это была настоящая, глухая, непроницаемая пустота. Как будто за его глазами не было ничего, кроме скучных, сухих, сугубо академических размышлений о магической теории, перемежающихся монотонным, почти медитативным, лишённым всякой эмоциональной окраски перечислением фактов: «холодно в классе... эти чернила отвратительного качества... Забини опять храпит на третьей парте...»
Это сводило меня с ума. Я пыталась пробиться глубже, приложить больше силы, больше воли, рискуя быть обнаруженной, — и наталкивалась на то же самое. Ни намёка на боль, ни искры гнева, ни единого отзвука воспоминаний о нашей борьбе, о наших столкновениях, обо мне. Он будто бы полностью стёр меня из своего внутреннего мира, как стирают ненужную надпись с пергамента.
И вот, сегодня ночью, сидя в полной темноте своего кабинета, при свете единственной свечи, я не выдержала. Я закрыла глаза, вложила в фокус всю свою силу, всю свою проницательность, всю свою отчаянную, непрофессиональную нужно узнать, и вторглась.
Это было не как чтение мыслей. Это было как будто падаешь в пустоту.
Мгла. Абсолютная. Холод, пронизывающий до костей. Безмолвие, такое густое, что в ном можно было утонуть.
И вдруг — словно мираж в пустыне — возник образ. Смутный, далёкий, размытый. Не я. Не Хогвартс. Старый, мрачный дом, возможно, Нотт-мэнор. Пыльная, заброшенная библиотека с полками до потолка. И чувство... не острой боли, не ярости, а тяжёлого, усталого, всепоглощающего безразличия. «...скоро отсюда... навсегда... никогда не вернуться...»
Я потянулась к этому образу, жадно, отчаянно цепляясь за хоть что-то, что было хоть сколько-то эмоционально заряжено, что напоминало бы о том, что он ещё жив внутри.
И в тот же миг что-то щёлкнуло. Не в его сознании. Во мне. Как щелчок капкана.
Мгла вокруг образа рассеялась, словно её отдернули как занавес. И моё сознание наткнулось не на случайную, бесхозную мысль. А на... приманку.
Чёткий, ясный, кристаллизованный, как будто заранее заготовленный и выставленный напоказ мысленный образ. Не мой образ. Образ его отца. Стоящего с тонким, гибким хлыстом в руке. Лицо бесстрастное. И чувство — не вспышка ужаса, а леденящее, животное, глубоко въевшееся, привычное ощущение страха. Страха как фона. Как атмосферы. Как данности.
Я дёрнулась назад, как от физического удара током, сердце выскакивало из груди, колотясь диким, паническим ритмом. Я сидела, тяжело дыша, в полумраке, чувствуя, как по спине бегут ледяные мурашки. Это было не случайное воспоминание, вырвавшееся из-под контроля. Оно было слишком чётко, слишком ярко, слишком... срежиссировано. Это было выставлено специально. Как витрина в музее ужасов.
Он почувствовал моё вторжение. Почти сразу. И он не стал отталкивать меня, не стал строить новые барьеры. Он показал мне то, что хотел. Самую свою уязвимую, самую больную, самую тёмную точку. Но не как крик о помощи или попытку достучаться. А как предупреждение. Как последнюю, самую безжалостную и самую пронзительную манипуляцию.
«Вот видишь, кем ты меня сделала? — словно говорил этот выставленный образ. — Ты так хотела залезть ко мне в голову, докопаться до сути? Получай. Ты теперь одна из них. Одна из тех, кто причиняет боль, кто оставляет шрамы, кто становится частью этого пейзажа страха. Поздравляю, профессор. Вы добились полного слияния. Вы теперь в одной лиге с моим отцом.»
Я отшатнулась от собственного дара, чувствуя приступ физической тошноты, подкатывающий к горлу. Я пересекла последнюю, самую главную черту. И он, даже в своём опустошённом, почти неживом состоянии, нашёл в себе силы, нашёл этот последний, изощрённый и жуткий способ дать мне это понять. Возложить на меня этот последний, самый тяжёлый камень.
Я больше не пыталась читать его мысли. Я боялась. Боялась снова наткнуться на эту холодную, выставленную напоказ боль, на это безмолвное, но оглушительное обвинение.
Я сидела в темноте, чувствуя, как холод из его мыслей, из той пустоты, что я сама же и создала, медленно проникает в мою собственную душу.
Я медленно, будто неся на плечах невидимый гроб, поднялась и подошла к окну. Замок внизу спал, погружённый в предрассветную мглу, лишь в нескольких окнах мерцал тусклый, одинокий свет дежурных факелов. Где-то там, в каменной клетке своей спальни, был он. И в его голове, в том невероятном, сложном, блестящем уме, который я когда-то так жаждала понять, теперь зияла дыра. Пустота, которую я сама, своими руками, своим страхом и своей жаждой контроля, и выжгла дотла.
Я думала, что веду тонкую, изощрённую игру. Что я — опытный, закалённый в боях игрок, а он — талантливый, но всё же дилетант, одержимый юнец. А он сделал меня соучастницей собственного разрушения. Он вложил в мои руки зеркало, в котором я увидела себя стоящей в одном ряду с источником его самых глубоких ран.
Я сжала кулаки до боли, упираясь лбом в ледяное, ничем не смягчённое стекло. Давно знакомой ярости не было. Не было даже привычного отчаяния. Была только тяжёлая, давящая, как сырой могильный грунт, горечь. И стыд за то, что опустилась до этого грубого, отчаянного вторжения.
Я отступила от окна, оставив на стекле влажный, быстро исчезающий след ото лба.
Давящая тишина моих апартаментов, обычно такая спасительная, стала невыносимой. Она гудела в ушах, вторила той пустоте, что я обнаружила в нём, и в ней слишком отчётливо звучало эхо того леденящего образа — отцовского хлыста, теперь навсегда связанного со мной в его сознании. Я не могла дышать этим воздухом.
Набросив на плечи первый попавшийся плащ, я почти выбежала в ночные коридоры Хогвартса. Мне нужно было движение, холод, звёзды, что угодно, лишь бы заглушить гулкую пустоту внутри и смыть с себя это липкое, отвратительное чувство соучастия в чужой боли.
Ноги сами понесли меня вверх, по бесконечным спиральным лестницам, туда, где воздух становился тонким, колючим и обжигающе чистым. На Астрономическую башню. Туда, где можно было почувствовать себя песчинкой перед лицом вселенной и на время забыть о всех земных драмах.
Я вышла под открытый купол ночного неба, жадно вдыхая полной грудью, и замерла, будто наткнувшись на призрак.
У самого парапета, спиной ко мне, неподвижно, словно ещё одно каменный изваяние, вросший в кладку, стоял Теодор Нотт. Его фигура, освещённая бледным лунным светом, казалась неестественно хрупкой, почти эфемерной, и до мозга костей отрешённой.
И в моей голове, с ужасающей, молниеносной, чисто животной ясностью, вспыхнула мысль. Не логичная, не взвешенная — инстинктивная, рождённая тем самым страхом, что я так тщательно подавляла.
Он собирается спрыгнуть.
Образ пустоты в его глазах, его абсолютное, леденящее безразличие к будущему, к карьере, к моему предложению, выставленная, как трофей, боль, на которую я наткнулась... Всё сложилось в один ужасающий, неопровержимый пазл. Это был единственный логичный финал.
— Нет! — мой собственный крик сорвался с губ хриплым, перепуганным, почти нечеловеческим звуком, прежде чем я успела что-либо обдумать, взвесить, проанализировать.
Я бросилась вперёд, мой плащ взметнулся позади, хлестнув по ногам. За одно-единственное мгновение, я преодолела расстояние, отделявшее нас, и мои руки, движимые чистейшим, слепым ужасом, вцепились в грубую ткань его мантии, с силой, граничащей с исступлением, оттаскивая его от края, от этой чёрной бездны, зиявшей за парапетом.
— Теодор, нет! Ради всего святого, нет! — я почти кричала, прижимаясь грудью к его спине, готовая физически удерживать его, бороться с ним, упасть вместе с ним, но только не дать ему сделать этот последний, непоправимый шаг.
Он не сопротивлялся. Он даже не пошатнулся от моего неистового напора. Он просто... обернулся.
И его лицо, освещённое лунным светом, выражало не решимость самоубийцы, не покой от принятого решения. Оно выражало полное, абсолютное и глубоко шокированное недоумение. Его глаза были широко раскрыты от неожиданности. И на его бледных, в лунном свете почти прозрачных щеках, я увидела блестящие, невытертые следы слёз.
— Профессор? — его голос прозвучал хрипло, сбитый с толку, почти испуганный моей истерикой. — Что вы...?
Я застыла, всё ещё вцепившись мёртвой хваткой в его мантию, собственное дыхание срывалось, сердце колотилось где-то в горле, готовое разорвать грудную клетку. Я смотрела на него, на его растерянное, заплаканное, но живое лицо, и осознание чудовищности своей ошибки, всей глубины моего заблуждения обрушилось на меня с такой сокрушительной силой, что у меня буквально подкосились ноги.
Я не упала. Я просто ослабила хватку, и мои руки бессильно опустились, повиснув плетьми. Стыд, жгучий и всепоглощающий, смешался с почти болезненным облегчением.
— Я... я подумала... — я попыталась выговорить, но слова застряли у меня в горле комом, смешавшись со слезами, которые я не позволила себе пролить. Стыд, облегчение и остатки адреналина сотрясали меня изнутри.
Он смотрел на меня, и постепенно, медленно, как восход солнца, недоумение в его глазах сменилось горьким, пронзительным пониманием. Он понял, что я о нём подумала. Какой финал я ему предписала.
— Я не собирался прыгать, профессор, — сказал он тихо, его голос был усталым, иссякшим, но твёрдым. В нём не было и тени лжи. — Я просто... пришёл подышать. Подумать.
Он посмотрел на мои руки, всё ещё мелко дрожащие от испуга, на моё перекошенное страхом и стыдом лицо. И впервые за долгие, долгие недели в его взгляде, сквозь пелену безразличия, появилась искра чего-то настоящего, неподдельного. Не одержимости, не ненависти, чего-то печального и по-взрослому мудрого.
— Вам действительно так плохо от мысли, что вы могли довести меня до этого? — спросил он, и в его голосе был лишь тихий интерес.
Я не могла ответить. Слова застряли у меня в горле, смешавшись со стыдом и этим диким, неконтролируемым облегчением от того, что он жив, что он стоит здесь, дышит. Я всё ещё чувствовала под пальцами грубую ткань его мантии, память о моём паническом, необдуманном порыве.
— Вы... — он начал и замолчал, словно с трудом подбирая слова, которые не ранят. — Вы действительно так обо мне думаете? Что я настолько... слаб? Что не могу пережить неудачу в личной... ну, в том, что я считал личным?
В его голосе не было обиды.
— Нет, — наконец выдохнула я, и мой голос прозвучал хрипло, непривычно для меня самой, сломанно. — Я... я увидела пустоту. В тебе. И испугалась. Мне показалось, я... — я не могла договорить, не могла выговорить слова «я разрушила тебя». Они были слишком страшными.
— Вы ничего не разрушили, — он произнёс это тихо, почти шёпотом, глядя куда-то мимо меня, на тёмный, зловещий контур Запретного леса. — Вы просто... перестали быть тем, кем были для меня. А я... я не знал, как быть дальше. Как существовать в этом вакууме. Вот и всё.
Его простота, отсутствие драматизма и пафоса были ошеломляющими. Он не обвинял меня. Не проклинал.
— Те... ноты... — я не удержалась, слово вырвалось против моей воли, пузырём лопнувшей боли.
Уголок его рта дёрнулся.
— Да. Это был реквием. Красивый, да? — он посмотрел на меня, и в его взгляде, как вспышка, мелькнула тень прежнего, острого, язвительного интеллекта. — Вы ведь проверили? Узнали источник?
Я молча кивнула, не в силах солгать.
— Я знал, что проверите, — он сказал просто, без тени торжества. — Вы не могли не проверить. Это ваша природа. Ваша сила. И ваша ахиллесова пята.
Он говорил не как обиженный ребёнок или мстивший любовник, а как учёный, хладнокровно разбирающий результаты сложного и в чём-то жестокого эксперимента.
— Почему? — прошептала я, и мой шёпот был поломанным, лишённым всякой профессорской власти. — Зачем это было нужно? Вся эта... ложь?
Он помолчал, его взгляд снова стал отстранённым, устремлённым в ночь.
— Чтобы вы поверили. Чтобы вы увидели то, что хотели увидеть. Ранимую душу. Сломленного романтика. Чтобы вы... опустили защиту. Это была... тактика. — Он произнёс это слово с лёгким, горьким оттенком, как будто пробуя его на вкус и находя его пресным. — Грязная, да. Но эффективная.
Он признался. Спокойно, без оправданий.
— А то, что было потом... в кладовой... — его голос дрогнул, впервые за весь разговор в нём прозвучала неуверенность, и он отвернулся, чтобы скрыть своё лицо. — Это была уже не тактика. Это была... слабость. Моя слабость, за которую мне до сих пор стыдно. И, думаю, — он бросил на меня быстрый взгляд, — вам тоже.
Он сделал шаг назад, к парапету, но теперь его движение было не опасным, не роковым, а просто усталым. Он просто хотел опереться на холодный камень, найти точку опоры.
— Я не собираюсь прыгать, профессор Квелл, — повторил он, глядя на меня поверх плеча, и в его голосе снова зазвучала та твёрдая, стальная нота, что была ему свойственна раньше. — Мне есть ради чего жить. Пусть даже это всего лишь желание доказать кое-кому, — он имел в виду отца, это было ясно без слов, — что я не тот, кем он меня считает. Что я сильнее.
Он выпрямился. Лунный свет падал на его лицо, вырезая резкие, взрослые черты, делая его старше его лет.
— Вам не нужно за мной следить. И не нужно бояться за меня. Всё, что было между нами... вся эта война... она закончилась. Мы оба проиграли.
Он повернулся, чтобы уйти, оставив меня одну на вершине башни под холодными, безразличными звёздами с тяжёлым, невыносимым грузом его слов, его холодных признаний и той странной, леденящей пустоты, что осталась после того, как панический страх за его жизнь наконец отпустил меня.
— Теодор, — окликнула я его, уже не зная, зачем, что я могу сказать, что может что-то изменить.
Он остановился, но не обернулся. Его спина была прямой и неприступной.
— Та программа в MACUSA... — я выдохнула, цепляясь за последнюю соломинку, за последний шанс что-то исправить, предложить хоть какой-то выход. — Предложение ещё в силе.
Он медленно, почти печально, покачал головой.
— Нет. Мы бы друг друга уничтожили там. Вы знаете это так же хорошо, как и я.
И он ушёл. Его шаги, ровные и твёрдые, затихли на винтовой лестнице, растворившись в ночной тишине замка.
Я осталась одна под холодным, безучастным небом. Звёзды над головой молчали.
Тео
Камень башни был ледяным, как прикосновение призрака. Он просачивался сквозь тонкую ткань мантии, сквозь кожу, прямо в кости, вымораживая всё изнутри. И лишь когда я упёрся плечом в шершавую поверхность стен главного коридора, холод сменился относительным, обманчивым теплом. Именно тогда это и случилось.
Мои колени внезапно подкосились, стали ватными, чужими. Я едва успел отшатнуться к стене, прильнуть к её тверди, пытаясь заглушить этот разорванный, прерывистый звук, вырывавшийся из моей собственной груди. Дыхание было неровным, как у загнанного зверя мелкая, неконтролируемая дрожь, исходившая из самого центра моего существа, заставляла вибрировать каждый мускул, каждую косточку. Я сжимал кулаки, впиваясь ногтями в ладони, но это не помогало.
Потому что я видел её лицо.
Оно стояло передо мной, запечатленное на внутренней стороне век. Не то гордое, надменное, с вызовом во взгляде, к которому я привык. Оно было искажено чистым, неконтролируемым страхом. А её голос, сорванный до крика, обжигающий, как кислотой, до сих пор звенел в ушах.
Она испугалась за меня до потери пульса, до потери достоинства, до той самой первобытной паники, которую не подделать.
И этот страх был настоящим, он обжёг меня, как молния. И моя собственная, так тщательно выстроенная крепость из ледяного безразличия, из цинизма и сарказма, дала трещину. Послышался оглушительный, внутренний хруст — будто лёд на озере ломается под ногами.
Я ожидал всего. Её гнева — да, я его заслужил. Её презрения — я к нему готовился. Её холодного, окончательного отторжения — я сам его спровоцировал. Но не этого. Никогда не этого. Не этой обнажённой заботы.
И самое шокирующее, самое постыдное было то, что в тот миг, когда её пальцы впились в ткань моей мантии, я почувствовал не раздражение, не торжество от того, что её наконец прорвало. Я почувствовал облегчение. Дикое, иррациональное, всепоглощающее облегчение. Оно хлынуло в меня тёплой волной, парализуя, опьяняя. Оказалось, что кто-то заботится. Что моё возможное исчезновение, моя гибель кого-то напугает до смерти. И не абстрактного «кого-то». Её.
Это чувство было настолько чуждым, настолько неожиданным, что ком подкатил к горлу, а на глаза навернулись горячие слёзы. Я зажмурился, вжимаясь затылком в шершавый камень, пытаясь вытереть из памяти её широко раскрытые, полные ужаса глаза. Мне было стыдно. Горячее, жгучее чувство стыда разливалось по венам вместо крови. Стыдно за то, что довёл её до этого, за ту слабость, что она увидела — жалкое, дрожащее существо у края пропасти. И за ту слабость, что я почувствовал в себе — эту жажду, эту потребность в её участии.
Я глубоко вздохнул, потом ещё раз, выравнивая дыхание, заставляя лёгкие подчиняться. Дрожь постепенно утихла, отступила, оставив после себя странную, почти кристальную ясность. Пустоту, которую нужно было чем-то заполнить.
Спуск в подземелья Слизерина был похож на переход в другое измерение. В гостиной, у камина, развалившись в кресле, сидел Драко Малфой. Его насмешливый взгляд скользнул по мне, оценивая, выискивая брешь.
— Ну что, Нотт? Снова бегал на свидание с призраком своей американской мечты? — бросил он, ожидая увидеть привычную реакцию — сжатые челюсти, вспышку гнева в глазах, молчаливую ярость.
Но я остановился и посмотрел на него. По-настоящему посмотрел.
— Знаешь, Малфой, — сказал я, и мой голос звучал ровно, спокойно, без привычной язвительности или надрыва. — Ты был прав. Окклюменция — это полезный навык.
Драко замер с полуоткрытым ртом. Его насмешливый вид сменился чистым, неподдельным изумлением. Он недели назад пытался втянуть меня в тренировки, хвастаясь своими успехами, и получал лишь презрительные взгляды и колкости. А теперь... теперь он видел перед собой другого человека.
Я не стал ждать ответа. Прошёл в свою спальню, закрыл дверь и наложил заклятие тишины. Звуки внешнего мира умерли, и в наступившей тишине зазвучали только мои собственные мысли.
Я не лёг спать. Я сел на кровать, ощущая холодное покрывало под собой, и достал тот самый учебник по ментальной магии, который Драко совал мне в руки с таким высокомерием. Он был тяжёлым, кожа переплёта шершавой на ощупь. Я открыл его на первой главе.
Мои пальцы провели по строчкам, но глаза скользили по буквам, не видя их. Я думал не о том, как защититься от неё. Не о том, как выстроить стены против её любопытства или её жалости. Я думал о том, как защититься от самого себя. От своей собственной одержимости, которая чуть не привела меня к краю пропасти — и не только метафорической. От своей слабости, которую я показал ей в кладовой, когда набросился на неё и позволил увидеть все свои грязные мысли. От той боли, что я носил в себе, как занозу, и которую использовал как оружие против неё и против всех.
Я больше не хотел быть марионеткой своих эмоций. Я больше не хотел, чтобы кто-то другой — будь то отец, профессор Квелл или мои собственные демоны — имел такую власть над моим разумом.
И я начал читать. Сначала медленно, вязнув в терминах и концепциях, затем всё быстрее, с тем же сосредоточенным, почти животным голодом, с которым обычно анализировал её движения на уроках, каждый её взгляд, каждую улыбку. Но теперь этот голод был направлен внутрь на постижение тёмных лабиринтов собственного сознания.
Авари
Прошла неделя. Время, казалось, затянуло самые страшные раны тонкой плёнкой обыденности. Хогвартс жил своей жизнью, уже думая о Рождестве; в воздухе витали запахи хвои, имбирного печенья и предвкушение праздника.
Мой кабинет был наполнен сосредоточенным гулом. Я вела урок, мой голос звучал ровно, уверенно, но если бы кто-то прислушался очень внимательно, он уловил бы новую, едва уловимую ноту — осторожность. Я больше не парила над студентами как хищная птица, выискивая слабину. Я будто отмерила вокруг себя невидимый барьер из холодного воздуха и больше не пересекала его. Это была моя линия обороны, моя новая реальность.
Мой взгляд, по старой, дурной привычке, иногда по инерции скользил в сторону задних парт, но теперь он не задерживался там с вызовом, со смесью страха и гнева. Он просто фиксировал факт, как регистрировал бы погоду за окном: Теодор Нотт на месте. Жив. Здоров. И... изменился.
Это было невозможно не заметить. Он не был тем одержимым, пылающим внутренним огнем студентом, чей взгляд обжигал меня до дрожи. Но он не был и той пустой, безжизненной оболочкой, что пугала своим ледяным безразличием после того случая в кладовой. В его осанке, в том, как он держал палочку — не как игрушку или оружие, а как инструмент, — в сосредоточенном, почти отрешённом выражении его бледного лица появилась новая, спокойная твердость. Он был сконцентрирован на материале, на словах, выходящих из моих уст, а не на мне самой. И в этой концентрации было что-то... здоровое. Что-то, чего я раньше в нём не видела.
Я вызвала его к доске для демонстрации сложного защитного заклинания. В классе на секунду повисла тишина — все помнили наши прошлые столкновения. Но он подошёл чётко, без тени прежней нервозности или надменной небрежности, его шаги были уверенными.
— Покажите, пожалуйста, модифицированный щит, мистер Нотт, — сказала я, отступая на шаг, чтобы дать ему пространство. Физическое и психологическое.
Он лишь кивнул, коротко и деловито, поднял палочку, выполнил движение, и заклинание не сработало с первой попытки. Энергия вырвалась чуть раньше, чем нужно, и полупрозрачный щит вспыхнул и погас, так и не стабилизировавшись.
Раньше он бы сжался от немой ярости на себя, сгрёб бы всё своё разочарование в комок и бросил бы мне в лицо взгляд, полный молчаливого обвинения. Сейчас же он просто спокойно опустил палочку, сделал глубокий, размеренный вдох и посмотрел на меня. Его глаза были ясными. В них читалась лишь аналитическая мысль, поиск ошибки.
— Неверный угол запястья и преждевременный выброс силы, — произнесла я, и мой голос прозвучал ровно, профессионально, без привычной издёвки или подковырки.
— Да, — согласился он так же спокойно. — Я поспешил. Попробую ещё раз.
И он попробовал. Его движения стали медленнее, осознаннее, палочка описала в воздухе идеальную дугу, и на этот раз щит возник безупречно — ровный, плотный, сияющий холодным, стабильным светом. Он отбрасывал мерцающие блики на его сосредоточенное лицо.
— Хорошо, — сказала я, и в моём голосе, помимо воли, прозвучало неподдельное, профессиональное признание. — Очень хорошо.
Он кивнул, не улыбаясь, но и не отводя взгляда. В его глазах не было торжества, не было и подобострастия. Было лишь понимание, что цель достигнута, урок усвоен. И этот урок касался не только заклинания.
— Спасибо, профессор, — сказал он ровным, лишённым эмоций тоном и вернулся на своё место.
И в этот самый момент до меня дошло. Я наблюдала не за сломленным человеком и не за искусным манипулятором, готовящим новую ловушку. Я наблюдала за выздоровлением. За тем, как кто-то, пройдя через боль, отчаяние и собственные чудовищные ошибки, собирает себя по кусочкам, становясь сильнее.
Я смотрела, как он садится за парту, поправляя мантию, и впервые за долгое, мучительное время в моей душе не было ни едкой вины, ни сковывающего страха, ни лихорадочного желания что-то ему доказать. Была лишь тихая, странная, щемящая гордость. За него.
Он нашёл свой путь. Без меня. Возможно, даже благодаря тому ужасу, что я испытала за него на башне, но не для меня. Не ради моего одобрения или моего страха.
Тео
Внешне я был, пожалуй, воплощением спокойствия. Идеальная маска слизеринского равнодушия, отточенная до блеска. Мои успехи в окклюменции, под присмотром всё ещё изумлённого Драко, росли как на дрожжах. Я уже не просто возводил грубые барьеры из ничего; я выстраивал сложные, многослойные крепости. Стены из сухих академических расчётов, забрала из воспоминаний о старых, никому не нужных квиддичных матчах, зубцы из занудных отрывков учебника по зельеварению. Для любого постороннего взгляда, для любого щупальца, что могло бы попытаться проникнуть в мой разум, я был просто образцовым студентом, поглощённым учёбой. Тихим. Неопасным. Скучным.
Но внутри меня бушевала буря.
Мысли о ней не ушли. Они не испарились, не растворились в пустоте, которую я так отчаянно культивировал. Они стали другими. Раньше они были навязчивыми, жгучими, острыми, как раскалённая сталь, полными желания и ядовитой потребности манипулировать, обладать, ломать. Теперь они были... тихими. Настойчивыми. Как назойливая, знакомая мелодия, которая крутится в голове с утра до вечера, фоном ко всему, что ты делаешь.
Я ловил себя на том, что взгляд сам ищет её силуэт в Большом зале, скользит по столу преподавателей, отмечая, в чём она сегодня, как уложены её волосы — строго или чуть небрежно, не легла ли тень усталости под её глазами. Я мысленно заканчивал её фразы на уроках, предвосхищая ход её логики, следующий вопрос, следующий пример. Я по-прежнему восхищался её интеллектом, её стальной выдержкой, но теперь это восхищение было лишено того разрушительного голода, что пожирал меня изнутри.
Я тратил колоссальные, выматывающие душу силы, чтобы скрыть это. Не только от неё — от самого себя. Каждый такой проблеск, каждый миг, когда моё внимание соскальзывало на неё, я тут же накрывал пластом белого шума — бесконечным, монотонным повторением таблицы ингредиентов для зелий или заученных наизусть траекторий полёта снитча. Я стал виртуозом самоцензуры.
Я учился не просто блокировать мысли о ней. Я учился перенаправлять их энергию, как перенаправляют русло реки. Вместо того чтобы бесцельно, болезненно представлять её улыбку, я анализировал её преподавательские методики, структуру урока, эффективность приёмов. Вместо того чтобы увязать в фантазиях, я мысленно разбирал её боевые стойки, которые видел когда-то, оценивая их с чисто практической точки зрения.
Я превращал одержимость в учебный материал. Это был единственный способ выжить. Единственный способ не сойти с ума и не позволить старой болезни поглотить меня вновь.
Но иногда, особенно в тишине ночи, когда воля ослабевала, защита давала сбой. Тогда образы всплывали сами — без спроса, без предупреждения. Её лицо, искажённое страхом, там, на башне. Белый свет луны на её щеках. Её руки, вцепившиеся в мою мантию с силой, способной разорвать ткань. И не было в этих воспоминаниях ничего, кроме странной, щемящей, почти физической боли и... благодарности. Глупой, иррациональной благодарности за тот миг.
В такие мгновения я позволял себе чувствовать это. Позволял этой боли пройти сквозь меня, прожить её насквозь, не сопротивляясь. А затем, с титаническим усилием, которое вытягивало из меня все соки, я снова возводил стены. Кирпич за кирпичом. Мысль за мыслью.
Я не хотел забывать её. Я понимал, что не смогу. Это было бы бегством. Я учился жить с этим. Принимать эту мысль о ней как часть себя, как старый шрам, как что-то, что нельзя вырезать, не задев жизненно важные органы, но можно обезвредить. Поместить в отдельную, укреплённую комнату в самом дальнем, заброшенном уголке своего сознания, запереть на все замки и не подходить туда без крайней необходимости.
Это была изнурительная, ежедневная, ежеминутная работа. Работа каменщика своей собственной души. Но это была моя работа, мой выбор, мой путь к тому, чтобы оставаться собой, не позволяя прошлому — и ей в нём — управлять моим будущим.
И когда я видел её в коридоре, встречал её новый, осторожный, лишённый прежнего напряжения и вызова взгляд, я мог кивнуть ей с нейтральной вежливостью, и ни один мускул на моём лице не дёргался. Потому что внутри всё, что могло бы заставить меня дрогнуть, всё, что могло бы прорваться наружу криком, шёпотом или дрожью в руках, было уже надёжно спрятано.