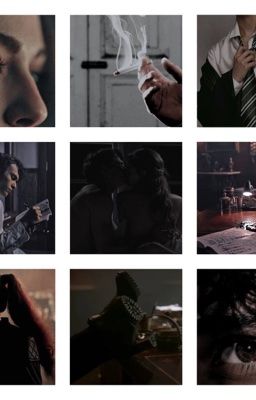План
Я вела себя с безупречной корректностью. Мои уроки были шедеврами педагогического мастерства — информативные, чёткие, безупречно структурированные. Я стала идеальным преподавателем. И призраком в собственной шкуре. Каждое слово, каждый жест были просчитаны, лишены каких-либо намёков, каких-либо подтекстов.
Но моя проницательность, мой проклятый дар, против которого я была теперь бессильна, превратился в пытку. Мысли студентов обрушивались на меня нестройным, назойливым хором — тревоги об оценках, влюблённости, скука, голод. Но один голос в этом хоре выделялся, но не потому, что был громким или навязчивым, а потому, что его... не было.
Раньше, когда мой взгляд, против моей воли, скользил по Теодору Нотту, я ловила отголоски: обрывки моего собственного образа, смущённое, но жгучее восхищение, навязчивую аналитику моих движений, моего голоса. Теперь же, когда мой взгляд по инерции, по профессиональной привычке, находил его — а я не могла полностью избегать смотреть на одного из самых способных студентов — я натыкалась на... стену.
На плотную, нарочитую, идеально выстроенную психическую защиту. Он не просто отгородился, он выстроил целую крепость из скучных, нейтральных, сугубо академических мыслей.
«...модификация щита требует точного угла в сорок пять градусов, иначе эффективность падает на...»
«...в учебнике упоминается альтернативный метод, но он требует больших затрат энергии...»
«...интересно, почему Снейп настаивает на использовании именно корней паутинника, а не болиголова...»
Мысли, которые я ловила, были сухи, как пыль в библиотечных фолиантах, и бессмысленны, как зубрёжка перед экзаменом. Они были искусственны. Постановочны. Он думал о магии, о зельях, о погоде — обо всём, кроме меня. И я знала, что это была ложь.
Он заставил меня чувствовать себя слепой, беспомощной, лишённой того самого инструмента, что всегда давал мне контроль над ситуацией.
И сегодня, после урока, когда он проходил мимо моего стола, случилось нечто непроизвольное. Моя рука, будто жившая своей собственной, предательской жизнью, дёрнулась, и я уронила стопку пергаментов. Листы с шуршанием разлетелись по каменному полу, как белые, испуганные птицы.
— О, позвольте, — его голос прозвучал прямо рядом со мной.
Он мгновенно опустился на колено и стал собирать бумаги. Быстро, с той же выверенной точностью, с какой выполнял заклинания. Его пальцы аккуратно подбирали листы, ни на секунду не задев мою руку, не подняв на меня глаза. Он вложил подобранную стопку мне в руки. Его пальцы не дрогнули.
— Всё в порядке, профессор? — спросил он ровным, вежливым, безжизненным тоном, наконец подняв на меня взгляд.
И в его глазах я увидела только вежливый, отстранённый интерес преподавателя к ученику, у которого что-то упало.
— Да... спасибо, мистер Нотт, — выдавила я, чувствуя, как у меня холодеют пальцы, будто я держала не пергаменты, а глыбу льда.
— Не за что, — он кивнул с той же безупречной вежливостью, развернулся и вышел из кабинета.
Я стояла, сжимая в онемевших пальцах стопку бумаг, и слушала, как его шаги затихают в коридоре.
Что, если он просто стал осторожнее? Что, если он научился блокировать свои мысли именно от меня? Что, если эта идеальная маска — лишь новый, более изощрённый слой игры, ловушка, чтобы усыпить мою бдительность, чтобы я сама опустила щит?
Эти вопросы, как ядовитые плющи, оплетали мой разум по ночам, когда замок затихал и оставался только треск камина в моих покоях. Они сводили с ума, лишая сна, превращая тишину в навязчивую, подозрительную мелодию. Я ловила себя на том, что анализирую каждое его движение в классе — наклон головы, взмах палочки, то, как он поправлял мантию. Каждую интонацию в его голосе, когда он отвечал на вопросы.
Однажды после урока, когда класс уже почти опустел, он задержался у моего стола. Моё сердце тут же ушло в пятки, а затем забилось где-то в горле.
— Профессор, можно вопрос? — его голос был ровным, почти монотонным.
— Конечно, мистер Нотт.
Он задал вопрос о теоретическом аспекте одного сложного, почти архаичного защитного заклинания. Вопрос был умным, глубоким, уместным и абсолютно, до мозга костей, лишённым какого-либо подтекста. Чистая магия. Сухая теория. Я ответила, мои слова текли ровно и профессионально, будто я была словарём с ножками.
Это проверка? Он испытывает меня? Ищет слабое место в моих знаниях? Или, что хуже, в моём самообладании? Стою ли я достаточно прямо? Не дрожит ли мой голос? Не слишком ли быстро я дышу?
Он выслушал мой ответ, кивнул с той же вежливостью.
— Благодарю вас, профессор. Всё стало понятнее.
Он развернулся, чтобы уйти. И в этот момент, проходя мимо, его рука, висящая вдоль тела, едва не задела край моей мантии. Не было никакого намерения в его движении, но моё тело среагировало прежде разума. Я дёрнулась назад так резко и нелепо, что мой локоть ударился о край стола, а палочка чуть не выскользнула из вспотевших пальцев. Он даже не обернулся, не заметил этого моего жалкого, панического вздрагивания. Он уже выходил за дверь, оставляя меня в гордом одиночестве с моим унижением.
Я осталась стоять, прижимая дрожащую, онемевшую от удара руку к груди, под которой бешено колотилось сердце. Это было неосознанно. Моё собственное тело, мои рефлексы отказывались верить в его «исправление».
***
Это хрупкое, отравленное перемирие длилось ещё несколько дней. Каждый урок с седьмым курсом был изощрённой пыткой, проверкой на прочность. Я говорила, объясняла, отвечала на вопросы, но часть моего сознания всегда, всегда была прикована к нему.
А потом это случилось.
Я проверяла работы у группы второкурсников, сидя за своим столом. В аудитории царила лёгкая, рабочая суета, гул голосов и шорох перьев. Я наклонилась, чтобы достать из ящика стола пузырёк с красными чернилами для пометок, и мой рассеянный взгляд скользнул по полу под столом.
Там, в глубокой тени, между массивной ножкой стола и стенкой, лежал смятый клочок пергамента. Не мой, явно выпавший у кого-то из студентов. Машинально, почти не глядя, я потянулась, чтобы поднять его и выбросить. Рутинный, ничего не значащий жест.
Мои пальцы коснулись бумаги. И в тот же миг возник яркий, чёткий, обжигающий сенсорный взрыв, ворвавшийся в мой разум без спроса.
Я. На этом самом столе. Спиной на разбросанных пергаментах и учебниках. Моя блузка порвана у горла, бюстгальтер грубо расстёгнут, обнажая грудь, а его голова склонена ко мне, и его язык скользит по моему соску, заставляя его напрягаться и вызывая мой собственный, сдавленный стон, который я слышала так, как если бы он рвался из моей собственной груди. Моя юбка задрана до самого живота. Мои трусики — те самые, чёрные кружевные, что он увидел — сдвинуты в сторону его нервной, требовательной рукой. И его пальцы... были внутри меня. Глубоко. Влажно. Мерно и настойчиво двигаясь, в такт моим собственным, непроизвольным движениям бёдер, которые сами искали этого проникновения. Я чувствовала всё — каждую шероховатость его кожи, каждую каплю моей собственной влаги, всепоглощающее удовольствие.
Это было не видение. Это было насилие. Полное, тотальное, на уровне всех органов чувств. Ментальное изнасилование.
Я резко дёрнулась назад, врезавшись затылком о выступающий край столешницы. Глухой стук прокатился по аудитории, заставив нескольких студентов вздрогнуть и обернуться. Я не чувствовала боли. Всё моё существо было парализовано шоком, всепоглощающим стыдом и яростью, такой острой, что в глазах потемнело. Моё лицо пылало адским пламенем, между ног предательски пульсировало, сердце колотилось так бешено, будто хотело вырваться из груди и упасть к его ногам.
Мой дикий, затравленный взгляд помчался по аудитории, выискивая его, единственного виновника этого кошмара.
Он сидел на своём месте и не смотрел на меня. В руках у него была раскрытая книга, он, казалось, был полностью поглощён чтением. Но в уголке его рта — том самом, что в моём видении прижимался к моей коже, — играла едва заметная, кривая, торжествующая улыбка.
Он знал, что я найду эту бумажку. Он знал, что я до неё дотронусь. И он подготовил это. Это была не случайная утечка мысли. Это была мысленная мина. Целенаправленный, хладнокровно рассчитанный удар.
Моя рука, всё ещё сжимающая тот проклятый, осквернённый пергамент, дрожала так, что кости ныли. Я с силой сжала его, стараясь не разорвать в клочья, и судорожно, как воришка, сунула в свой портфель.
Весь оставшийся урок прошёл в кровавом тумане. Мой голос звучал хрипло и срывался на полуслове. Я не могла думать, не могла связно говорить, не могла дышать. Я чувствовала на себе его взгляд — теперь уже тяжёлый, насыщенный, влажный от осознания своей власти — и знала, что он видит моё смятение. Он видел, как моя шея и щёки покрываются предательским румянцем, как мои руки дрожат, когда я пытаюсь что-то написать на доске, и он наслаждался этим. Каждой секундой моего унижения.
Когда урок закончился, я не двигалась, уставившись в одну точку на столе, чувствуя, как по моей спине ползут ледяные мурашки. Я слышала, как студенты собирают вещи, как его спокойные, размеренные шаги приближаются. Он остановился около моего стола.
— Всё в порядке, профессор? — его голос прозвучал низко, притворно-участливо. — Вы выглядите... взволнованной.
Я не ответила. Не посмотрела на него. Я боялась, что если подниму глаза, то либо расплачусь от унижения и бессилия, либо брошусь на него с палочкой наготове, и тогда он окончательно выиграет.
Он не стал настаивать. Я услышала, как он развернулся и вышел.
Холодная, кристальная, абсолютная ярость была единственным, что удерживало меня от того, чтобы сжаться в комок на полу и не разрыдаться от унизительного, всепоглощающего стыда. Он не просто перешёл черту. Он стёр её с лица земли и плюнул на пепел, посмеявшись над самой её идеей.
Я медленно поднялась, прошлась по кабинету, мои быстрые, отрывистые шаги гулко отдавались в звенящей тишине. Паранойя, тот постоянный червь сомнения, что глодал меня все эти дни, оказалась не паранойей. Она была инстинктом. Его послушание, его ледяная маска — всё это было бомбой замедленного действия, тщательно заложенной под моё спокойствие. И теперь она взорвалась, разорвав моё самообладание в клочья и оставив после себя только вот это — эту первозданную, дикую ярость.
Он хотел игры? Хорошо. Чёрт возьми, он её получит.
Но не на его условиях. Больше никогда на его правилах. Он думал, что шокировал меня? Унизил? Заставил почувствовать себя слабой, уязвимой?
Ошибка. Роковая, глупая, мальчишеская ошибка.
Он разбудил не испуганную девушку. Он разбудил охотника из MACUSA. Того, кого отправляли по следам чёрных магов, того, кто умел быть холоднее, расчётливее и безжалостнее любого озлобленного фанатика или хитрого контрабандиста. Тот навык, что я пыталась запереть в глубине себя, он сам выпустил его на волю.
Мой страх испарился, сгорел в пламени этой новой, очищающей ярости. Теперь во мне осталась только одна цель. Одна мысль.
Он увидел в меня объект желания? Фетиш? Потенциальную добычу? Хорошо.
Я заставлю его увидеть во мне его личную гибель.
Я не буду жаловаться Дамблдору. Не буду убегать или просить перевода. Не буду строить более высокие стены. Стены бесполезны против того, кто уже пробрался в самую крепость.
Я остановилась перед большим, старинным зеркалом в резной дубовой раме, висевшим на стене и медленно, почти с любопытством, провела кончиками пальцев по своему отражению — по линии шеи, по вырезу блузки, туда, где в его воображении его губы оставляли жгучие следы.
Он хотел моё тело? Мечтал раздеть, прикоснуться, обладать?
Пусть мечтает. Пусть сходит с ума от желания. Я стану для него навязчивой идеей, которая сожжёт его изнутри, лишит сна и рассудка. Я буду дразнить, манить и отступать, сводя его с ума, пока он не совершит роковую, непоправимую ошибку. Пока он не предоставит мне реальный, осязаемый, неоспоримый повод уничтожить его.
— Хорошо, мистер Нотт, — прошептала я своему отражению. — Вы хотите играть с огнём? Что ж. Я буду вашим пламенем. И я буду гореть ровно до тех пор, пока от вас не останется один лишь пепел.
Я развернулась, отходя от зеркала. Мои планы уже складывались в голове, холодные, смертоносные. Первый шаг был очевиден. Мне нужно было снова стать профессором Квелл — уверенной, дерзкой, неукротимой, той, что ворвалась в этот замок и перевернула всё с ног на голову.
Я вошла не как призрак в собственной шкуре и не как перепуганная жертва. Я вошла как хозяйка положения, вернувшаяся на своё законное поле боя.
Я отбросила строгий костюм. На мне было платье глубокого изумрудного цвета, мягко облегающее каждый изгиб, каждый намёк на линию бедра, на талию, но при этом не было вульгарным. Мои волосы были убраны в элегантную, но нарочито небрежную причёску, будто я только что вернулась с прогулки под шквальным ветром.
Урок был посвящён невербальной магии. И я вела его с новой, почти опасной энергией. Я не ходила между партами — я скользила, как хищница, вышагивающая по своей территории. Мой голос звучал низко и властно, заставляя студентов ловить каждое слово, каждую интонацию. Я была живым воплощением той силы, которую пыталась преподать.
И я смотрела на него. Не краем глаза. Не с опаской. А прямо, открыто, с лёгкой, едва заметной усмешкой, тронувшей уголки моих губ. Я ловила его взгляд и не отпускала, пока в глубине его обычно бесстрастных глаз не вспыхивала та самая, знакомая мне по вчерашнему ментальному насилию, тёмная, голодная искра. Я видела, как он замирает, как его пальцы непроизвольно сжимают палочку.
Я подошла к его парте, демонстрируя сложное, отточенное движение запястьем для невербального щита. Я наклонилась, чтобы поправить хватку палочки у его соседа, и облако моих духов окутало его. Всего на мгновение. Ровно настолько, чтобы заставить его дыхание споткнуться, а пальцы судорожно вцепиться в край парты.
— Концентрация, мистер Нотт, — мой голос прозвучал прямо у его уха, тихо, интимно. — Мысли должны быть чисты. Всё лишнее... — я сделала крошечную, выразительную паузу, — отвлекает.
Я произнесла это с лёгким, почти чувственным намёком, и тут же выпрямилась, продолжив урок, будто ничего не произошло. Но я видела, как напряглись мышцы на его скуле, как он сглотнул, пытаясь протолкнуть внезапно пересохший ком в горле. Он пытался натянуть обратно свою маску безразличия, но это уже не работало. Я вскрыла его броню, и теперь играла с открытой, кровоточащей раной его желания.
На протяжении всего урока я металась между ним и остальным классом, как маятник. То приближалась, чтобы оставить на его парте листок с «исправлениями» (мои пальцы намеренно, плавно скользнули по его тыльной стороне ладони), то отдалялась к доске, демонстрируя заклинание с такой грацией и сконцентрированной силой, что было невозможно отвести глаз. Каждое движение моего тела было уроком и провокацией одновременно.
Я не флиртовала, я демонстрировала силу. И ту самую, желанную им привлекательность, которую он хотел сорвать и присвоить, но которая теперь была обёрнута в колючую проволоку моей воли и нацелена прямо в него.
Когда урок закончился, я стояла у своего стола, наблюдая, как студенты спешно собирают вещи.
— Мистер Нотт, — мой голос, чёткий и властный, остановил его у самой двери. — Останьтесь на минуту.
Он обернулся. В его позе, во взгляде читалась готовность к бою.
Я дождалась, пока последний ученик не скроется за дверью, и тяжёлая дверь не закроется. Я не стала подходить к нему. Не стала сокращать дистанцию. Я просто осталась на своём месте, по ту сторону кабинета, и посмотрела на него.
— Вы вчера что-то обронили, — сказала я абсолютно нейтрально. Я открыла свой портфель, достала оттуда тот самый, аккуратно разглаженный пергамент и положила его на стол перед собой. Я не смотрела на него, я смотрела прямо на Теодора. — Будьте осторожнее. В следующий раз это может найти... не тот человек.
Я не ждала ответа. Я повернулась к доске, делая вид, что стираю с неё записи, всем своим видом, каждой линией спины показывая, что разговор окончен. Я оставила его стоять там, посреди пустого класса, с сжатыми в бессильной ярости кулаками и взглядом, в котором бушевала гремучая смесь из гнева, смятения и того самого, животного, непреодолимого желания, которое я теперь так искусно направляла против него самого.
***
Прошло два дня.
Я не услышала шагов. Дверь в мой кабинет была заперта на все возможные замки. Но сквозь монотонный шум дождя, барабанившего по стёклам, и потрескивание поленьев в камине прорвался другой звук. Тихий, влажный, прерывистый.
Всхлип.
Один-единственный. Я замерла, перо застыло в моих пальцах. Это длилось всего мгновение, но его было достаточно, чтобы пронзить меня насквозь. Это был звук абсолютной, беззащитной слабости. Звук, который не мог принадлежать никому, кроме...
Я резко обернулась, сердце заколотилось где-то в горле. В щель под дверью, тонкую полоску света, что-то подсунули.
Маленький, идеально свёрнутый конверт из плотной, дорогой бумаги цвета слоновой кости. На нём не было имени. Только мои инициалы, выведенные чётким, знакомым почерком. A.Q.
Сердце моё бешено заколотилось, сбивая ритм.
Дрожащими, почти не слушавшимися меня пальцами я вскрыла конверт. Внутри лежал небольшой лист тончайшего, почти прозрачного пергамента, а на нём — не текст, не изображение.
Это была музыка. Нотная строка, аккуратно, с точностью выведенная чёрными чернилами. Всего несколько тактов. Короткая, меланхоличная, пронзительно красивая мелодия, полная тихой тоски и какой-то невыразимой, щемящей нежности. Она словно висела в воздухе, звеня в тишине моего кабинета.
И внизу, под нотами, всего одна фраза, написанная тем же твёрдым, уверенным почерком, что и инициалы на конверте:
«Это то, что я слышу, когда вас нет».
Ни угрозы. Ни намёка. Ни похабного подтекста. Только обнажённая, беззащитная, оголённая до нерва искренность. Искусство вместо животной страсти. Тоска вместо ярости. Мольба вместо вызова.
Я сидела, прижимая нотный лист к груди, где сердце билось теперь совсем по-другому — не от гнева, а от чего-то острого и болезненного. Мой разум был парализован, разорван на части противоречивыми чувствами. Стыд за свою недавнюю ярость, полная, оглушающая растерянность, щемящая жалость.
Я медленно провела подушечками пальцев по нарисованным нотам, представляя, как он, всегда замкнутый, язвительный и непостижимый Теодор Нотт, сидит где-то в тишине своей спальни или пустой аудитории и сочиняет эту пронзительную, одинокую музыку. Обо мне. Моя защита, мои ледяные стены, которые я возводила с таким трудом, с таким ожесточением, вдруг треснули по всем швам, и сквозь трещины хлынул свет — ослепительный, болезненный и неотвратимый.
Тео
Она не заметила, как дверь в кабинет бесшумно приоткрылась. Она не услышала шагов, потому что их и не было — я позаботился об этом, окутав себя заклинанием Тишины, которое отрабатывал до автоматизма в пустых классах по ночам.
Я стоял в дверном проёме, наблюдая за ней. Я видел, как она держит моё послание, не ноты, а оружие, как её плечи, всегда напряжённые, будто ожидающие удара, наконец расслабились, сникли под тяжестью обмана. Я видел, как в её глазах, отражалась не война, к которой я её готовил, а смятение. Полная, оглушающая растерянность.
Я понял, что прямое противостояние, эта игра в открытую, где мы метали друг в друга наши самые тёмные импульсы, мне невыгодна. Она была сильнее. Она была опытнее. Она умела обращать моё же желание против меня, заставляя меня терять голову. Её слабостью была не жадность, не гордыня, не тщеславие. Её слабостью была её проницательность. Та самая, что делала её такой опасной. Её уверенность, почти религиозная вера в то, что она видит людей насквозь, читает их как раскрытую книгу.
И я решил дать ей прочесть ту главу, которую она хотела увидеть. Ту, что обезоружила бы её полностью.
Я заставил её поверить, что она победила. Что её удар был так точен и сокрушителен, что он сломал меня, заставил отступить, пересмотреть всё. А затем, когда её бдительность притупилась, я нанёс удар в самом неожиданном, самом незащищённом месте — ударил по её... человечности. По её тайной, глубоко запрятанной, подавленной жажде чего-то настоящего, чего-то большего, чем эта грязная, изматывающая игра в кошки-мышки. По её потребности не только быть сильной, но и быть... тронутой.
Ноты были идеальной подделкой. Я не сочинял их, проводя ночи в муках творчества. Я провёл их в библиотеке, отыскав отрывок из малоизвестного, забытого всеми магического реквиема XVIII века, полного показной, театральной меланхолии. Я просто переписал его. Никакой тоски по ней. Никакой «пронзительной нежности». Я знал, что её музыкальное образование поверхностно, что она не узнает источник. Я играл на её восприятии, а не на знании.
Я видел, как она подняла взгляд, почувствовав моё присутствие, и мгновенно, как по команде, стёр с лица все следы торжества, заменив их на тщательно отрепетированную маску напускной, смущённой решимости, за которой должна была скрываться «боль». Я сделал шаг вперёд, позволив двери закрыться за моей спиной, отрезая нам пути к отступлению.
— Профессор, — мой голос прозвучал тихо, с искусственно подправленной, едва слышной хрипотцой, будто от слёз, которых не было. — Я... я не хотел, чтобы вы это находили. Это была ошибка.
Авари вздрогнула и судорожно сжала нотный лист, пытаясь спрятать его. Её щёки залила краска — не гнева, а смущения.
— Нотт... я... — она запнулась, её собственная, обычно такая железная уверенность испарилась, оставив лишь растерянный шёпот.
— Забудьте, пожалуйста, — я опустил глаза, изображая смущение, но продолжая отслеживать каждую мельчайшую реакцию на её лице, каждый нервный жест её рук. — Это глупость. Я не знаю, что на меня нашло.
Я видел, как она смотрела на меня теперь — не как на угрозу, не как на ученика, которого нужно поставить на место, а как на раненое, сложное, страдающее существо, которого она, такая проницательная, неправильно поняла, которому, возможно, причинила боль. Я видел, как в её взгляде, помимо смятения, загорается искра не той ярости, что была прежде, а чего-то другого. Жалости? Интереса? Желания... исправить? Приручить?
— Это... очень красиво, — наконец выдохнула она, и в её голосе прозвучала мягкость, которую я у неё ещё не слышал и на которую и рассчитывал.
Я внутренне усмехнулся. Попалась. Крючок проглочен. Леска натянута.
— Не стоит, — я сделал вид, что разворачиваюсь, чтобы уйти, зная, что этот жест, этот уход, эта демонстрация «смирения» заставит её остановить меня. Это был идеальный, выверенный по секундам ход.
— Подождите, — её голос прозвучал твёрже, в нём зазвенели нотки её прежней воли, но направленной теперь в новое, нужное мне русло. Она встала, всё ещё сжимая в руке моё «признание». — Это... не глупость. Это искренне.
Она смотрела на меня теперь не как профессор на студента, а как женщина на мужчину, который показал ей свою уязвимую, ранимую сторону, свою «душу». Именно на это я и рассчитывал. Сместить планку. Изменить правила.
Я позволил себе посмотреть на неё прямо, вложив в свой взгляд всю поддельную тоску, на которую был способен, всю «боль» от её былого отвержения.
— Вы должны выбросить это. Мы должны забыть. Вы были правы. Это... неправильно. — Я говорил именно то, что она хотела от меня услышать после своего «триумфа». И именно это, этот её собственный яд, который я ей возвращал, заставлял её теперь инстинктивно хотеть обратного. Отринуть свою же победу, как несправедливую.
— Я не выброшу, — она положила ноты на стол с каким-то новым, странным для неё, почти детским упрямством. — И... не всё, что неправильно, является плохим.
Я опустил голову, скрывая неудержимую, торжествующую улыбку, что рвалась наружу. Рыба не просто клюнула. Она села на крючок. Я перевернул игру с ног на голову, и теперь она сама, добровольно, оправдывала моё присутствие в своей жизни перед самой собой.
— Вам следует уйти, — прошептала она, но в её голосе уже не было прежней, стальной силы приказа. Это была просьба. Признание того, что ситуация вышла из-под её контроля, и ей нужно время, чтобы осмыслить этот разворот.
Я кивнул, всё ещё изображая смущённого, разбитого юношу, чьё «сердце» было у неё на ладони, и вышел, оставив её одну в кабинете с фальшивыми нотами и очень реальным, очень опасным, разъедающим её изнутри смятением.
Дверь закрылась. Я не ушёл сразу. Я замер в тёмном, пустом коридоре, прислушиваясь к тишине по ту сторону дубовой двери, пытаясь уловить в ней отголоски бури, что бушевала теперь в ней.
Через мгновение я услышал тихий, сдавленный звук. Не плач. Скорее... короткий, прерывистый выдох, полный такой растерянности и внутренней борьбы, что по моей спине пробежал холодок чистого, ничем не разбавленного триумфа. Я представил её: стоящую посреди кабинета, с моими нотами в одной руке, другой, возможно, сжатой у горла, её обычно ясный и острый, как бритва, ум — разорванный на части противоречивыми импульсами, которые я в неё поселил.
Идеально.
Я не стал задерживаться дольше. Моя работа здесь была сделана. Я развернулся и пошёл прочь, мои шаги теперь были бесшумными, тени обступали меня, как верные псы, сливаясь со мной воедино.
Я спустился в подземелья Слизерина, но прошёл мимо гостиной, где Драко и Блейз лениво перебрасывались картами. Я направился прямиком в свою спальню, закрыл за собой дверь и наложил звукоизолирующее заклятье.
Только тогда, в полной, гарантированной тишине, я позволил себе улыбнуться. Широко и без капли тепла. Это был оскал волка, учуявшего кровь.
Я подошёл к своему столу, открыл потайной ящик и достал оттуда не несколько исписанных листов. Целую папку. Черновики. Наброски. Десятки вариантов того единственного послания, той единственной фразы, того единственного музыкального отрывка. Я перебирал их, с наслаждением вспоминая, как подбирал нужные слова, нужную интонацию, нужный отрывок музыки, который бы задел её за живое, который бы резонировал с её подавленной, одинокой сущностью. Я изучал её, её прошлое, её вероятные вкусы, как учёный изучает поведение редкого вида. Я не бросал ей вызов. Я вёл исследование. И моя гипотеза блестяще подтвердилась.
Я нашёл её слабое место. Её жажду чего-то настоящего, чего-то глубокого, скрытую под слоями профессиональной брони, цинизма и самозащиты. И я подал ей это «настоящее» на серебряном блюде, зная, что она, такая проницательная, такая недоверчивая, никогда не заподозрит подделку. Потому что она хотела в это верить. Потому что это было именно то, что она, сама того не осознавая, ждала от меня.
Мой следующий шаг был очевиден. Мне нужно было закрепить успех. Подлить масла в огонь её смятения, её зарождающегося «соучастия». Но сделать это нужно было тонко, изящно, чтобы она сама, по собственной воле, потянулась ко мне, думая, что это её инициатива, её решение.
Я вышел из спальни с абсолютно невозмутимым, почти отрешённым лицом и направился в гостиную. Драко, не глядя на меня, лениво бросил через плечо:
— Ну что, Нотт? Снова бегал подставлять щёчку своей американской мучительнице? Надоело, что тебя как следует не отшлёпали?
Обычно я игнорировал такие комментарии или отвечал колкостью, ставящей их на место. Но сейчас я остановился, повернулся к Драко и сделал нечто совершенно неожиданное, не укладывающееся в рамки моего привычного образа.
Я позволил своим плечам ссутулиться, будто под тяжестью невыносимой ноши. В моих глазах появилась искра настоящей, неподдельной боли, вымученной, выстраданной за эти дни тотального контроля. Я молча, с выражением глубочайшего страдания, покачал головой и, не сказав ни слова, прошёл мимо, направляясь к выходу из гостиной, всем своим видом, каждой линией спины изображая глубоко раненного, несчастного человека, раздавленного неразделённым чувством.
Я чувствовал на себе их взгляды и не сомневался, что слухи о моей «душевной травме», о моём «сломленном состоянии» дойдут до нужных ушей. Возможно, даже преломлённые и усиленные сплетнями.
Театр был в самом разгаре. И я играл свою роль гениально. Я больше не был одержимым студентом. Я был жертвой. Жертвой обстоятельств, жертвой своих «неконтролируемых» чувств, жертвой её жестокости и непонимания. И нет ничего привлекательнее и опаснее для того, кто считает себя сильным и проницательным, чем возможность проявить милосердие, простить, приручить того, кого они, как им кажется, «сломали».
Я вышел в сырой, прохладный воздух у Чёрного озера, вдыхая его запах гниющих водорослей и влажного камня. Внутри меня пела ледяная, ясная, абсолютная уверенность. Она уже почти моя. Она расслаблялась, опускала защиту, начинала верить в ту иллюзию, тот миф, который я так тщательно, с таким математическим расчётом создал для неё.
А я ждал. Ждал момента, когда она сама, движимая этой новой, смешанной жалостью и интересом, подойдёт ко мне. Чтобы «поговорить». Чтобы «помочь». Чтобы исправить свою «ошибку» и утешить «раненую птицу».
И тогда, когда она будет ближе всего, когда её защита будет полностью снята, я нанесу последний, решающий удар. Тот, что заставит её упасть в объятия, которые она сама же и распахнёт.
Авари
Я пыталась вести урок, произносила заученные фразы о невербальных заклинаниях, но мои мысли, моё существо, были там, в том конверте, в тех пронзительных нотах, в том сломленном, потерянном выражении его лица, которое я увидела вчера и которое с тех пор выжигало меня изнутри.
Мой взгляд снова и снова непроизвольно скользил по классу, выискивая его. Теодор сидел за своей партой, сгорбившись, его обычно прямая, гордая осанка была сломана. Его пальцы нервно, беспомощно перебирали перо, не в силах даже имитировать письмо. Он выглядел опустошённым, и этот вид разрывал моё сердце на части, вызывая прилив такой острой, такой мучительной, всепоглощающей жалости, что у меня перехватывало дыхание и в глазах темнело.
Это я. Это я загнала его в это состояние. Своей жестокостью, своей ядовитой игрой, своим театральным возвращением того проклятого, похабного рисунка. Я, взрослая женщина, преподаватель, наделённая властью и доверием, довела своего ученика — пусть сложного, пусть опасного, но всего лишь юношу — до такого отчаяния, что он, вместо того чтобы ответить гневом или ненавистью, нашёл в себе силы создать что-то хрупкое и прекрасное. Он подарил мне красоту. Музыку. А я в ответ — лишь презрение и холодную месть.
Когда, наконец, урок закончился, обрывая мои мучения, я не могла больше этого выносить. Давление вины, эта жалость, это странное, щемящее чувство, рождённое его «искренностью», достигло пика. Я должна была всё исправить. Сейчас.
— Мистер Нотт, — мой голос прозвучал тише и мягче, чем когда-либо за время моей карьеры. Он дрожал, выдавая моё смятение. — Останьтесь, пожалуйста. Мне нужно кое-что обсудить с вами. По поводу вчерашней... работы.
Он медленно, будто каждое движение причиняло ему боль, поднял на меня глаза. И я снова увидела это — ни капли прежнего вызова, ни искры той тёмной, хищной страсти. Только усталую, опустошённую покорность, которая ранила меня острее и глубже любого упрёка или угрозы. Он молча, почти незаметно, кивнул, снова опустив взгляд.
Мы молча дождались, пока последний ученик не скроется за дверью.
— Тео... — начала я, и его имя впервые слетело с моих губ без формальности, тихо и неуверенно. Я увидела, как всё его тело вздрогнуло от этого звука. — Я... я должна извиниться. За то, как я поступила. Это было... непрофессионально. И жестоко. С моей стороны.
Он молчал, уставившись в каменные плиты пола, его плечи были напряжены, и моё сердце сжалось в комок ещё болезненнее. Он даже не мог принять мои извинения. Насколько же я его ранила?
— Твоя музыка... — я продолжила, и мой голос предательски дрогнул. — Она невероятна. Это самый... самый трогательный и искренний подарок, который мне кто-либо делал.
Он медленно, будто боясь спугнуть этот момент, поднял на меня взгляд. И в глубине его тёмных, таких бездонных глаз, я увидела искру чего-то — слабой, дрожащей надежды? Или страха, что его снова отвергнут?
— Вы не должны... — его голос сорвался, стал хриплым и тихим. — Вы не должны так говорить. Я... я не должен был...
— Должен, — я перебила его, сама не осознавая, что делаю шаг вперёд, сокращая дистанцию между нами. Моя собственная, годами выстраиваемая броня треснула окончательно, и всё, что было за ней — вся вина, вся эта удушающая жалость, это странное, новое, тёплое и пугающее чувство, что начало прорастать в груди, — хлынуло наружу, сметая все преграды. — Это было искренне. И это... это что-то изменило. Во мне.
Я не думала. Я действовала на чистом, захлестнувшем меня порыве. Моя рука сама потянулась к нему, и прежде чем я опомнилась, мои пальцы уже лежали поверх его руки. Его кожа была холодной, почти ледяной, и от этого прикосновения по моей спине пробежали мурашки.
Он вздрогнул, всё его тело напряглось, но он не отдернул руку. Он смотрел на мои пальцы, прикасающиеся к его коже, с таким изумлением, с таким неверием, словно это было какое-то чудо, а не простое человеческое прикосновение.
Тео
Я поднял на неё глаза, и в них стояли слёзы. Не те, что льются ручьём в припадке искренности, а те, что лишь слегка застилают взгляд, делая его стеклянным и беззащитным. Фальшивые, отрепетированные перед зеркалом, но такие до боли убедительные, что у неё буквально перехватило дыхание, и я увидел, как на её горле содрогнулась тонкая цепочка.
— Я не знаю, что делать, — выдавил я, и мой голос звучал надтреснуто, разбито, будто каждый слог давался с нечеловеческим усилием. — Эти чувства... они разрушают меня изнутри.
И это стало последней каплей. Той самой, что перевесила все её сомнения, все её принципы, всю её профессорскую спесь. Её сердце не просто дрогнуло — оно разорвалось пополам от вида моей искусственной агонии. Она не думала в тот миг о последствиях, о дурацком уставе Хогвартса, о своей блестящей карьере в MACUSA. Её захлестнула одна, единственная, примитивная потребность — утешить. Исправить свою ошибку. Вернуть тот самый «свет», который она, о ужас, сама же и потушила своим жестоким обращением с хрупким гением.
Она не сказала больше ни слова. Никаких нравоучений, никаких предостережений. Она просто шагнула вперёд и обняла меня.
Я замер на мгновение, изобразив полный, абсолютный шок, ошеломление от этого жеста, на который я, «несчастный», даже не смел надеяться. А затем мои руки обвили её талию, и я прижался лицом к её шее, уткнувшись в тёплую кожу у ключицы, в её волосы, пахнущие бергамотом. Я вдохнул этот аромат, изобразив сдавленный, прерывистый вздох, полный такого отчаянного, ненасытного голода, что у неё, я был уверен, потемнело в глазах, и её собственное тело на мгновение обмякло. Моё дыхание было горячим и влажным на её коже, моё тело дрожало — идеально сыгранная, отточенная дрожь подавленных, наконец-то вырвавшихся на свободу эмоций.
Она гладила меня по спине через ткань мантии, её ладони были тёплыми и неуверенными. Она что-то шептала мне на ухо — обрывки бессмысленных, утешительных фраз, звуки, а не слова. И я чувствовал, как под этим напором наигранной жалости и этого внезапного, всепоглощающего, слепого чувства с её стороны, тает её собственная броня. Её железная воля, её острый, проницательный разум — всё это растворялось, превращалось в прах в объятиях того, кого она считала своей жертвой.
И я, прижимаясь к ней, чувствовал, как всё её тело, такое сильное и уверенное, теперь безропотно отдалось мне в порыве этого ложного, этого слепого сострадания, позволил себе улыбнуться. Я спрятал своё лицо в складках её тёмного платья, в этой ткани, которая теперь была мне покорна, и мои губы растянулись в том оскале, которого она никогда не увидит.
Она была моей. Полностью. Безнадёжно. Её воля была сломлена, её разум отравлен, её защита разрушена. И самая изощрённая ирония заключалась в том, что она даже не понимала, не осознавала этого. Она свято верила, что это она сделала первый шаг. Что это она держит ситуацию под контролем. Что это она, великодушная и прощающая, спускается до уровня своего несчастного ученика, чтобы «спасти» его.
О, как же она ошибалась. Каждая её слеза, пролитая надо мной, каждое утешительное поглаживание, каждый шёпот — всё это было частью моего плана. Всё это было моей победой.
И я знал, что это только начало. Теперь, когда дверь была открыта, когда она сама нарушила все границы, мне оставалось лишь шагнуть внутрь. И я сделаю это. Холодно. Расчётливо. Наслаждаясь каждой секундой её добровольного порабощения.
Авари
Я не могла сказать, сколько секунд или минут мы простояли так, в этом немыслимом, этом абсолютно запретном объятии, которое перечеркнуло все границы между нами. Я чувствовала его дыхание на своей шее, предательскую дрожь в его сильных руках, сжимающих мою талию, и моё собственное сердце колотилось где-то в горле, бешеным, неистовым ритмом, заглушая разум, который яростно кричал о катастрофе.
Я первая отстранилась. Моё лицо пылало огнём, дыхание сбилось, превратившись в короткие, прерывистые вздохи. Я сделала шаг назад, пытаясь вернуть себе хоть каплю самообладания, создать хоть немного пространства там, где его только что не было вовсе, где наши тела сливались в одно целое.
— Нам... нельзя, — выдохнула я, и это прозвучало жалко, неубедительно и глупо, как детское «нельзя» перед соблазнительной, запретной конфетой, которую уже успели распробовать.
Он не стал настаивать. Не стал пытаться удержать, вернуть меня в это порочное объятие. Он просто смотрел на меня — широко раскрытыми, всё ещё влажными глазами, в которых застыли боль и облегчение.
— Я знаю, — прошептал он, опуская голову. — Простите. Я... я не должен был. Это вышло само.
Эти слова, полные скромности, добили меня окончательно. Он извинялся? После того, как я довела его до этого срыва?
— Нет, это я... — я оборвала себя на полуслове, чувствуя, как голос снова предательски дрожит, выдавая всю глубину моего смятения. Я провела рукой по лицу, пытаясь стереть с него жар и вернуть хоть тень привычной собранности. — Теодор, это... это нельзя повторить. Никогда. Ты понимаешь?
Он кивнул, всё так же глядя в пол, изображая полное, безропотное послушание. Но я краем глаза успела заметить, как уголки его губ, скрытые от меня, дрогнули в намёке на едва сдерживаемое торжество. Моё использование его имени, моя нескрываемая паника — всё это было сладчайшей музыкой для его ушей. Я сама играла на его инструменте.
— Я понимаю, профессор, — сказал он тихо, почти неслышно. — Это была ошибка. Моя ошибка.
— Нет! — я снова резко перебила его, и моя собственная резкость, этот почти истеричный всплеск, удивили меня больше всего. Я не хотела, чтобы он так думал. Не хотела, чтобы он снова ушёл в себя, в ту бездну боли и одиночества, которую я едва не усугубила своим отторжением. Я хотела... я не знала, чего хотела. — Просто... будь осторожен. И... — я запнулась, с трудом подбирая слова, которые не предадут меня окончательно, — и сохрани эту музыку. Она прекрасна.
Он снова поднял на меня взгляд, и в его глазах я увидела искру чего-то похожего на хрупкую, дрожащую надежду.
— Хорошо, — просто сказал он.
Больше говорить было не о чем. Всё было сказано этим объятием. Все карты были открыты, все барьеры рухнули. Всё было решено в тот миг, когда мои руки обвили его спину.
Он молча поклонился — старомодно, почти по-рыцарски — и вышел из кабинета, оставив меня одну в оглушительной, давящей тишине, которая теперь пахла его парфюмом.
Я медленно, будто мои кости вдруг стали свинцовыми, опустилась в своё кресло, мои колени подкосились, не в силах больше держать меня. Я смотрела на гладкую поверхность двери, по которой только что скрылся мой... кто? Искуситель? Жертва? Ученик?
Мои пальцы сами, против моей воли, потянулись к тому месту на шее, где я ещё чувствовала жгучее прикосновение его губ, его дыхания.
Я нарушила каждое правило, переступила через каждую профессиональную и моральную черту, и всё это из-за боли в глазах мальчика.
Я встала, подошла к высокому арочному окну, прижавшись лбом к холодному стеклу, и увидела его далеко внизу, одинокую, тёмную фигурку, бредущую по самому краю Чёрного озера. Он шёл медленно, не спеша, его руки были засунуты в карманы мантии, голова опущена.
И я не могла отвести от него взгляд, пока он не скрылся из виду, не растворился в сгущающихся сумерках.
***
Прошла неделя. Я пыталась вести себя как обычно — чётко, профессионально, отстранённо. Но это была жалкая пародия. Каждый мой взгляд, скользящий по Теодору, каждое мимолётное, случайное касание наших пальцев при передаче пергамента, каждый звук его голоса, ровного и вежливого, отзывался во мне низким, тревожным гулом, похожим на отдалённый раскат грома перед бурей. Я ловила себя на том, что ищу его в толпе в Большом зале, что мои глаза сами находят его фигуру и следят за ней, анализируя каждый жест, каждый поворот головы, пытаясь разгадать загадку, что он чувствует, что думает.
Я больше не могла этого выносить. Я должна была знать. Должна была прощупать почву, найти хоть какую-то опору в этом зыбком песке.
И вот, после урока, когда последние студенты уже потянулись к выходу, я задержала его взглядом, твёрдым и властным, каким он был раньше.
— Мистер Нотт, подойдите, пожалуйста. Мне нужна помощь с переносом некоторых... материалов в кладовую.
Мой голос звучал ровно, профессионально, но внутри всё сжалось в один тугой, болезненный комок тревоги. Это была ловушка. И ставила я её не для него, а для самой себя.
Он лишь кивнул с той же вежливой, нечитаемой нейтральностью и последовал за мной в маленькую, запылённую кладовую, примыкавшую к кабинету. Я зашла внутрь, он — за мной, и дверь закрылась, отрезав нас от внешнего мира и оставив в полумраке, где единственным источником света была узкая, пыльная полоса под дверью.
Я повернулась к нему, моя спина упёрлась в деревянный стеллаж, уставленный склянками, которые тихо, зловеще зазвенели от толчка. Моё сердце колотилось где-то в горле, такой громкой, дикой дробью, что, казалось, эхо разносилось по всей этой крошечной, душной комнате.
— Теодор, — выдохнула я, и на этот раз в моём голосе не было ничего, кроме неподдельной, измученной тревоги. — Как ты? Прошлая неделя... я...
Он не ответил. Не сказал ни слова. Вместо этого он просто сделал шаг вперёд, закрывая оставшееся между нами расстояние, и обнял меня. Не как тогда — с дрожью и мольбой. А жёстко, почти отчаянно, властно, прижавшись лицом к моей шее. Я замерла на мгновение, ошеломлённая этой внезапной агрессией, затем мои руки, движимые желанием утешить, поднялись, чтобы обнять его в ответ.
Я гладила его по спине, шепча бессвязные, глупые слова:
— Всё хорошо... всё в порядке... прости меня...
Но что-то пошло не так. Его объятие не ослабевало. Оно становилось всё теснее, почти болезненным, сжимая мои рёбра. Его дыхание, сначала ровное, стало прерывистым, горячим и влажным на моей коже. И тогда его губы не просто прижались к моей шее. Они начали двигаться. Горячие, требовательные, влажные поцелуи поползли вверх, к чувствительной линии челюсти, к мочке уха. В них не было и тени той нежности, на которую я купилась. Была лишь голодная, хищная, не оставляющая пространства для возражений интенсивность.
Я остолбенела, мои руки замерли на его спине.
— Тео... стой... — попыталась я протестовать, но мой голос прозвучал слабо и неубедительно, потерянно.
— Вы не представляете, как я мучился, — его шёпот прозвучал прямо у моего уха. — Думал только о вас. Каждую секунду.
И в этот момент его зубы, с лёгким, но с отчётливым, властным нажимом, прикусили нежную кожу у моей ключицы. Одновременно с этим его рука, сильная и цепкая, начала стягивать с моего плеча мою мантию, ткань которой вдруг показалась мне последней бронёй.
Я остолбенела на мгновение, парализованная этим внезапным, грубым переходом. Но затем... расслабилась. Это было слишком. Слишком интенсивно. Слишком быстро. И что-то внутри меня, тот самый профессиональный, холодный инстинкт, что не раз спасал меня в залах судов MACUSA и в переулках, полных опасностей, защёлкнулся, как предохранитель. Я перестала сопротивляться. Моё тело обмякло в его объятиях, мои руки всё так же лежали на его спине, но теперь это была не ласка, а концентрация.
«Пусть думает, что я сдалась... что я покорена... что его чары работают...» — пронеслось в моей голове ледяной, ясной мыслью.
Я не просто уловила поверхностные мысли, как делала это раньше. Я сбросила все барьеры, все фильтры. Я погрузилась в его разум, как ныряльщик в тёмные, мутные воды, позволив потоку его сознания, его истинных намерений, хлынуть на меня, заполнить меня, отравить.
И на меня обрушилась не просто похоть, не слепая страсть. А циничное, разъедающее, самодовольное торжество.
«...она сегодня снова в этой юбке... нарядилась специально...»
«...как бы поскорее залезть под неё и почувствовать, какая она горячая и влажная...»
«...она уже вся трясётся... хочет этого так же, как и я... только боится признаться...»
Его пальцы грубо стянули с плеч мою мантию, она упала на пыльный пол. Я безвольно позволила этому произойти, продолжая погружаться глубже, цепляясь за эти грязные, отвратительные образы, чтобы не захлебнуться в этом потоке лжи и манипуляции.
«...можно было ещё поиграть в стеснительного мальчика... но зачем, когда она уже здесь, уже раздвигает для меня ноги в мыслях...»
«...главное — не спугнуть... сделать всё плавно... чтобы она сама попросила, чтобы я её взял...»
И тогда, в самых глубинах, за всем этим грязным потоком, я наткнулась на него. На холодное, твёрдое ядро его замысла.
«...ноты сработали идеально... этот старый, заезженный реквием... как же смешно она на это повелась...»
«...думала, что я какой-то ранимый, несчастный романтик... а я просто хочу её трахнуть до потери сознания прямо у этого стеллажа...»
Мысль была грубой, примитивной и обжигающе откровенной в своём цинизме. Это был не порыв страсти. Не потеря контроля. Это был план. Хладнокровный, блестяще исполненный план. И музыка, что тронула меня до слёз, что заставила дрогнуть мою душу... была всего лишь приманкой. Расчётливым действием в его грязной, безжалостной игре. Оружием, обращённым против моей собственной, глупой, женской сентиментальности.
Моё тело, мгновение назад нарочито расслабленное, вдруг стало каменным, напряглось до дрожи. Его пальцы уже расстёгивали пуговицы на моей блузке, его губы были у моего уха, его дыхание обжигало.
Я резко, со всей силы, что была у меня, оттолкнула его от себя. Не ожидая такого, он отлетел и с глухим стуком ударился о соседний стеллаж. Он понял, что я видела.
Моя мантия лежала на грязном полу. Воротник блузки был расстёгнут, обнажая покрасневшую кожу на шее и ключице. Я стояла, дыша тяжело и прерывисто, смотря на него не с испугом или смущением, а с таким ледяным, всевидящим, абсолютным презрением, что даже он, со всей своей наглостью и самоуверенностью, не выдержал и отвёл взгляд, будто перед ним было нечто отвратительное.
— Ты, — мой голос прозвучал тихо. В нём не было ни страха, ни обиды. — Жалкое, ничтожное существо.
Я не стала ничего больше говорить. Не стала кричать, угрожать, объяснять. Любое слово было бы осквернено этим местом, этим моментом, его присутствием. Я просто наклонилась, подняла с пола мантию, не спуская с него взгляда, полного того же презрения, каким смотрят на ядовитую змею, и вышла из кладовой, захлопнув дверь с такой силой, что стёкла в склянках на полках зазвенели в ответ.
Я шла по пустынному коридору, не видя ничего перед собой, не слыша собственных шагов. Мой разум, ещё минуты назад разрывавшийся на части, теперь был чист. Он не просто обманул меня. Он не просто играл моими чувствами. Он осквернил всё. Доверие. Нежность. Саму возможность чего-то настоящего.