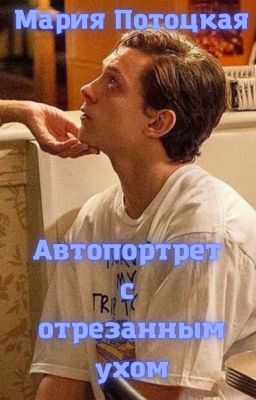16. Девочка со спичками
В следующее мое дежурство мы с Олей старались не пересекаться. Она проносилась мимо меня по коридору с еще большей скоростью, чем обычно. Мне тоже пока не слишком хотелось с ней общаться, хотя это была, наверное, не слишком гордая стратегия. У меня появилась шальная мысль вести себя еще более инфантильно, чем она обо мне думала, показать ей, какая у меня позиция ребенка. Я и сам не полностью понимал, в чем заключалась моя вредность, в чем смысл доказывать ее правоту, но мне это казалось единственным верным решением.
Не случилось поиграть в ребенка. День оказался таким нехорошим, что я и забыл думать про Олю и мое разбитое сердце.
Александра Тарасовна сказала, что сегодня будут новые поступления. Это, конечно, имелся в виду не какой-то товар, это означало, что сегодня в наш интернат прибудут новые жильцы. Врачи, медсестры — все были на взводе, потому что новоселами сегодня стали сразу семь женщин. А это ведь все бумажки, бумажки. Я тоже постоянно куда-то бегал: то кровати двигать, то полы мыть, то вещи в шкафах перебирать. Еще и работал на этаже, где находилась ординаторская, приходилось и указания врача выполнять.
Новенькие столпились у лифта, я им стулья потаскал, а рассмотреть не успел и даже не представился. Все дела, дела. А они там скучились, врач вызывала всех по одному, поэтому сразу в палаты не расселишь. А чего делать, не хором же всех опрашивать.
Пока я бежал по этажу с пеленками в руках для одной бабули, меня остановила врачиха. Голос у нее был мягким, но каким-то совершенно бескомпромиссным.
— Приведи мне Абхазаву через пять минут.
Хорошо, когда сроки ясны, в жизни все как-то понятнее становится. Я пробежался с пеленками, отдал бабуле и подрядил другую помочь ей их постелить, а сам — к новичкам. Смотрю, в основном какие-то пожилые, тихие, не вдупляющие в реальность. Еще не беспомощные, в основном даже аккуратные, но «дефект», как говорила идиотская Оля, чувствовался. Я стал звать Абхазаву, но никто не отзывался. Тогда я заглянул в кабинет врача, но там ее тоже не было. Вот бы не побег, только не в мою смену. У каждой новой женщины я спросил фамилию, ни Абхазав, ни даже грузинок среди них не было.
В ужасе я пошел окликать ее по отделению, она не отозвалась, но я сразу распознал новичка. И в принципе понял, почему она не отвечала. В одной из палат из угла в угол ходила девочка, у которой не было обеих рук ниже локтя. Пальцы росли прямо оттуда, были длинными и тощими, непропорциональными ее круглой фигуре. Такие иссыхающие водоросли из мясистой горки. Челюсть выдавалась вперед, зубки были круглыми, как на детских рисунках, глаза в кучку. Но это все не бросалось в глаза, взгляд постоянно возвращался к ручкам. Как с девушками с большой грудью, только все наоборот.
— Абхазава?
Она запищала, но что-то мне подсказывало, что она среагировала не на свою фамилию, а на то, что я к ней подошел и посмотрел на нее.
— Ты не говоришь?
Каким иногда глупым может быть этот вопрос, кому охота на него отвечать. Абхазава молчала, а у меня в голове проносились вихри мыслей. Почему я не спросил имя у врача и знает ли его сама Абхазава? Чего я делаю тут, в интернате, с несчастными людьми, чего стараюсь доказать себе, что всякий может быть счастливым? А чего после этой мудрой мысли не убежал из отделения? Перед кем выпендриваться теперь? А ухо — а может, и так пронесет. А как так-то, ни светлой головы, ни рук? А куда все это ушло, а кто забрал? А почему у одних так, а у других совсем не так?
— Пойдем со мной, пойдем, — я стал зазывающе махать руками. Интонация у меня была нежная, светлая, так я мог бы разве что с Олей в постели говорить. После нескольких попыток Абхазава все-таки пошла за мной. Чего бы и не пойти, я так старался.
Когда мы зашли в кабинет, врач сразу отвела взгляд от монитора, убрала руки от клавиатуры.
— Ух какая.
В ее взгляде читалась тревога. Врач по-всякому пыталась ее разговорить, потом заставляла выполнять какие-то простейшие указания, например, сесть на стул. Успехом они не увенчались, и врач сделала все выводы.
— Какое несчастье, — пробормотала она, а потом погладила Абхазаву по голове.
— Хорошая.
На это доброе слово она среагировала, даже вроде бы улыбнулась. Всем хочется ласки. Еще врач сказала:
— Вы не расслабляйтесь, в анамнезе написано, что этими руками она столы переворачивать может. И есть она умеет самостоятельно.
Это хорошо, человеку лучше побольше всего уметь.
Мне велели отвести ее в палату и тщательно указать ей, где теперь ее кровать. Абхазава быстро освоилась, легла в постель и накрылась одеялом с головой. Спряталась, значит.
А может, ей просто дневной свет мешал спать, чего я сразу приписываю ей детские повадки.
Если бы я отрезал ей мочку уха, она бы никогда не смогла почувствовать потерю в полной мере, как другие люди. Она же не смогла бы нащупать отсутствие, не дотянулась бы. И не факт, что она в зеркале себя узнает. В общем, была велика вероятность, что она бы ничего не заметила. Ну к чему ей мочка уха, разума-то все равно на донышке. Да и сережки ей никто не повесит. То есть вариант вроде бы и лучший, только что я тогда за человек-то такой буду? Совершить насилие, потому что кто-то не понимает, что происходит с ним? Вот у меня было много себя, я состоял из тысяч вещей. Я — это мама, отец, несмотря на все мою неприязнь к нему, Никита и Марат, тоже несмотря ни на что, Таня, которой пришлось стать частью меня, Аркаша. А еще я — это Горацио, это моя учеба, работа, мои компьютерные игры, мои книжки, шмотки, зажигалки, рюкзак и мусор на дне рюкзака. Это мое идиотское желтое покрывало, мое разбитое сердце, мой путь до метро, зубная щетка и талант к математике и рисованию. Много-много вещей, классных и не очень, очевидных всем, личных или знакомых только маме, но все равно моих. Мне не хотелось бы принижать мир Абхазавой, но мне сдавалось, что ей со мной не посоревноваться. Зачем же мне тогда забирать хоть частичку нее?
Мне было так грустно от всего этого, что даже хотелось вопрошать Бога.
Александра Тарасовна вдруг проявила небывалую для нее эмпатию и, когда я относил ей какие-то документы от врача, спросила меня:
— Устроил девочку с ручками?
Она кивнула как-то с сочувствием. А мне стало еще грустнее, только и смешно немного. «Девочка с ручками» ведь как раз без ручек.
В полдник оказалось, что девочка с ручками справляется с компотом, как мне и предсказывала врач, а вот очистить банан себе не может. Я сделал это для нее, а потом кормил ее бананом с рук. Аппетит у нее был хороший, одна женщина отдала ей свой банан, и я проделал эту процедуру снова.
Потом Абхазава в основном ходила по коридору, а когда видела меня, бежала со всех ног и хватала меня под руку своим плечом. Я попадал в плен, она держала меня крепко. Всякий раз Абхазава вела меня к кнопке лифта и отпускала только по прибытии. А когда я отходил от кнопки, снова бежала за мной. Появилась у нее мечта, чтобы я нажал эту самую кнопку. Казалось бы, так легко порадовать человека, но я не мог делать это в ущерб другим. Если бы я каждый раз вызывал Евгению Александровну, в итоге она бы убила ее, меня или в крайнем случае уволилась.
Потом я начал себя утешать и одновременно ругать. А вдруг Абхазава может быть вполне себе счастлива? У всех разные потребности, вон у меня сейчас такие приоритеты: выжить после ведьмы, найти себе девушку до приезда Марата, прославить Горацио, стать программистом, чтобы прославлять его еще больше, сделать всех людей добрыми и счастливыми. А вот у Лехи в приоритете были деньги, у Марата — песцы, у Риммы — резинки, у мамы — я, а у Аркаши — справедливость и кидать понты. Про Абхазаву я еще не понял, но наверняка у нее тоже была своя лестница потребностей, отличающаяся не только от моей и моих друзей, но и от девочек, которые, как и она, не умели говорить. Вот я с нетерпением ждал выход второй The Last of Us, а Абхазава — что я нажму эту кнопку. Разница, в принципе, небольшая.
Эти мысли только рождались в моей голове, они не окрепли и не осчастливили меня, но, может, у них был потенциал. Однако мне так и не удалось этого узнать, потому что пришлось убедиться в том, что беда не приходит одна.
Сквозь потолок я услышал вой с этажа сверху. Какая-то девочка залилась таким ревом, что он доходил даже сюда, вниз. Он доносился до меня приглушенным, но я все равно чувствовал море отчаяния в нем, так, может быть, кричат, когда кто-то умер. Я не должен был туда идти, на том этаже работала не только санитарка, но еще и Оля, кто-то там точно должен был быть, чтобы помочь. Но рев все не прекращался, и я вдруг различил, что это плачет моя Земляника. Я быстренько пробежался по этажу, подозвал одну ответственную женщину и попросил ее вызвать Евгению Александровну, чтобы она связалась со мной через лифт, если вдруг что-то случится или меня будут искать. Если уж тут поселилась девочка с ручками, с ней непременно должно было что-то случиться без надзора, как с девочкой со спичками.
Пока я поднимался по лестнице, я вслушивался в рев Земляники, она так горько плакала, что я готовился к самому худшему. Женщины и девочки занимались своими делами, а вот Оля выбежала из своего кабинета с лотком и шприцем с еще большей скоростью, чем обычно. Посреди коридора, где женщины смотрели телевизор, на серой плитке лежали покрасневшие ватные шарики среди нескольких аккуратных капелек крови. Ничего ужасного, не какая-то кровавая баня, но этот образ отпечатался в моей памяти, наверное, навсегда.
Земляника все ревела, и я подумал, может, кровь из носа пошла, испугалась. Или что-то женское, стыдно стало. Или разбередила себе ранку на пальце, все ногти-то и кожа вокруг них были обкусаны. Или худший вариант — кто-то кинулся в нее стулом, как в Воеводину, которая так и не дождалась привета от Егора Крида, только в Землянику стул долетел. Может, ей вообще зуб выбили. Почему-то даже последний вариант показался мне каким-то наивным.
Я трусливо вошел в палату и увидел, как Оля и санитарка Люба привязывают Землянику к кровати, приматывают лентами руки к прутьям. Она не то чтобы вырывалась, скорее выгибалась в жутком неистовстве от своего рева. Мне бы помочь им со своей мужской силой, а я только смотрел. Да и чего там, всего килограмм сорок крутилось под их руками. Пахло спиртом, в лотке лежал шприц с открытой иглой, значит, уже укололи.
Лицо Земляники все раскраснелось от криков, а голова ее под короткими волосами позеленела на треть. Там у нее была ранка, которую залили антисептиком.
Когда Оля и Люба привязали ее, обе сразу отпрянули от кровати. Я как-то сам фиксировал одну тетку с острого этажа, она у меня жутко вырывалась. А тут Земляника не пыталась освободиться, вжалась затылком в подушку, вся напряженная, как при судорогах, и продолжала реветь.
Оля проверила ее руки под лентами, не туго ли, держатся ли, а потом заговорила с ней:
— Полежишь немного привязанная, а как успокоишься, освободим руки, хорошо?
Земляника закивала, корчась от рыданий, но будто с каким-то пониманием.
— А на ужин, знаешь, какие вкусные пирожки дают? Со сгущенкой.
Потом Оля заметила меня и снова повернулась к Землянике:
— Вон Женя твой пришел, увидит, какая ты, и расстроится.
От Олиной фразы я весь растерялся, смутился и разозлился. Что ж она так, зачем манипулирует с моей помощью. Если бы это еще помогло.
— Она ударилась? — спросил я у Оли.
Она усмехнулась как-то горько, с обаянием повидавшего жизнь алкоголика.
— Разбила себе голову сама. Вдруг кинулась на пол и стала биться головой о кафель, пока мы ее не оттащили, только уже успела себе пробить дырку. Ну, не дырку, кожу ободрала.
Я смотрел на нее во все глаза, вот бы Оля просто была зла на меня и решила поиздеваться.
— А что ты думаешь, такое в первый раз? Не видел, что ли, до этого у нее ссадин? Просто не попадало на твое дежурство.
Многие с острого этажа себя колотили, но она жила не там, не была такой. Мне Земляника казалась хорошей девочкой со светлой улыбкой. Ну зачем девочке с такой чудесной фамилией колотить свою головку?
— А почему она так, Оля?
Ее будто немного удивил мой вопрос.
— Да просто так. Никто ее не трогал, вот что-то взбрело. Может, дисфория просто.
Да просто так. Да как это может быть просто потому, что в голову взбрело. Совершенно не научный ответ был у Оли, она же хотела быть такой умной всезнайкой, Гермионой Грейнджер, блин, так чего она говорит, что просто так?
Пришла врач, посмотрела ссадину, поговорила с Олей, безуспешно попыталась успокоить Землянику, погладила ее, покачала головой и ушла. Скоро должны были подействовать лекарства, хотя удивительно, что ее, такую маленькую, ничего не берет сразу, вот что я услышал из разговора врача с Олей. Осталась только Люба, сидела у ее кровати, но когда заметила, что я подхожу, деликатно удалилась. Знала, что Земляника у меня любимая девочка в интернате, что почти ни одну смену она не остается без подарка.
Подумал, что я остался с ревущей Земляникой один, а нет, еще две женщины в палате спокойненько лежали в своих кроватях. Ничего их не касалось.
Когда я подошел, Земляника напряглась, сфокусировала взгляд, как могла, но слезы лить не перестала. Корочка на ранке еще не образовалась, она промокала и темнела от зеленки. Обработали ее куда шире, чем была сама ссадина. Может, так и надо было, а может, Земляника просто вся выгибалась под Олиными руками. Просто, да не так уж.
— Ксюша, что же ты плачешь, что же у тебя случилось, — я бормотал, а она смотрела на меня внимательно. Чего я мог ей сказать? Не расстраивайся, все будет хорошо? А не расстраиваться почему? Какая у нее была причина для этого? И может ли у нее, бедной крошки, оставленной среди ягод, быть все хорошо? Что-то определенно может, но вот все ли?
— Ты расстраиваешься, Ксюша, и мы все за тебя расстраиваемся. Не хотим, чтобы Ксюша грустила, пусть бы Ксюша только радовалась. А ты слезы льешь, ударилась, и мы все расстроились, что тебе плохо.
Такая эмоциональная манипуляция не помогла, Земляника продолжала реветь. Кажется, она даже не поняла меня. Да откуда ей знать, как это может быть плохо, когда другой расстроен. Ее могли научить этому в детском доме, но у меня были сомнения. За всех детей не пострадаешь, нянечки там, должно быть, имели большие сердца, но их не поделить на столько частей.
Потом мне пришла гениальная и немного постыдная идея.
— А хочешь, я тебе платье принесу? У меня есть с собой, я просто еще не успел донести до тебя. Красивое-красивое, как у принцессы, только немного необычной. Это платье ночной принцессы цветов. Оно черное, как небо по ночам, а на нем нарисованы тысячи цветов, ярких, красивых, будто высыпались из свадебного букета. Хочешь?
Я немного ей соврал, оно не слишком ассоциировалось с принцессами, скорее с современными женщинами моего времени. Это было мамино платье, она отдавала его потому, что ей показалось, будто бы для ее возраста оно было слишком коротким. Это зря она так, не было у нее никакого возраста, но хорошо, что мама так решила.
Земляника вдруг стала успокаиваться, она закивала. Хотела!
— Круто! Ты только подожди немножко, я сгоняю на другой этаж за ним и вернусь сюда, к тебе, с платьем. А ты не плачь, не расстраивайся.
Я бегло заскочил на свой этаж — все было в порядке — а потом помчался вниз, к своему шкафчику. Я принес для девочек кое-какую одежду, но еще не успел ее раздать, и даже не придумал, что кому достанется.
Когда я вернулся, Земляника и вправду успокоилась. Я понимал, укол подействовал, но мне хотелось верить, что капля моей заслуги здесь тоже есть.
Женя, тебе бы только самооценку поднять за счет несчастных. Герой, блин.
— Вот смотри, какое красивое, — я разложил платье у нее на кровати. — Нравится?
Ленты позволяли ей сесть, я вложил платье ей в руки. Земляника его посмотрела, но мерить, как обычно, не собиралась. Похоже, она знала правила фиксации, так было надо, и мне даже казалось, что это ее немного успокаивало и почти точно устраивало. Ее опухшее от слез лицо просветлело, она улыбнулась.
— Да, — протянула она со своей обычной интонацией. — Нравится.
— Вот, чуть попозже померяешь.
Мне так хотелось как-то удержать улыбку на ее лице, что даже ком в горле стоял. Я стал оглядываться по сторонам, ища себе помощь, и взглядом наткнулся на игрушку в виде коровы, которую я как-то ей принес. Правда, вымени у нее не было.
— Вот смотри, коровка пришла тебя развеселить и пожалеть, — я раскачивал игрушку в разные стороны, так вроде бы дети представляют ходьбу. — Привет, Ксюша, я пришла к тебе.
Я сделал паузу в надежде, что Земляника тоже с ней поздоровается. Она вся замерла и с удивлением смотрела на игрушку.
— Вот я тебя поглажу, пожалею, чтобы Ксюша не расстраивалась. Мне немножко грустно, когда девочки расстраиваются, но в остальном у меня все хорошо. А как у тебя дела?
Земляника не считала меня дураком, игрушка и мои дурацкие слова, которые я произносил с трудом, преодолевая какой-то внутренний спазм, не казались ей глупыми. Но она будто бы слишком заворожилась ситуацией и не понимала, что нужно отвечать.
— Ну ладно, я вот, чтобы развеселить тебя, немного потанцую. А ты любишь танцевать?
И снова никакого ответа. Я вдруг понял, что Ксюша не умеет играть. Нет у нее такого навыка. В голове всплыл образ Оли, она бы сказала, что Земляника не умеет это делать потому, что у нее не развито абстрактное мышление, но мне казалось, что причина в другом. Не научили.
Она с выжиданием смотрела на меня. Я задергал рукой, коровка затанцевала, и Земляника вдруг тихо засмеялась.
Мы немного поиграли, то есть я пытался вовлечь ее в игру. Но она лишь изредка смеялась. А потом я понял, что скоро время обеда и теперь мне точно нужно вернуться на свой этаж. Я не мог оставить девочек и женщин без еды. Уходя, я положил коровку Землянике под бок.
Весь день мне хотелось снова подняться на этаж выше, но было страшновато. Криков я больше не слышал, наверное, все стало пусть не хорошо, но, по крайней мере, лучше. Мне сдавалось, что Земляника спит.
Ничего я не мог тут сделать хорошо, а лучше только сиюминутно. Любви им всей не дожать, а те крохи, что я из себя давил, ничего не стоят. Думал, какой я добрый герой, посмотрите на меня, ну разве я не чудо? Не нашел, как выразить себя, вот и выезжаю за счет несчастных.
Абхазава полдня бегала по коридору без какой-либо цели или лежала в кровати под одеялом. Было жарко, поэтому она натягивала его только на голову. В домике. Меня под руку она почти не хватала, потому что я засел в комнате для медперсонала, оставив открытую дверь, чтобы наблюдать, и почти никуда не вставал. Делал только самое необходимое, даже полы не помыл, ногти никому не постриг, а день был для этого. Вот зла будет моя сменщица, но, может, оно и к лучшему, пусть думает обо мне, козле, чем о том, что происходит вокруг. Своим хамским бездельем я спасал ее.
Так я раскис, что даже никому не писал, лишь периодически доставал телефон и смотрел, сколько времени осталось до того, как надо будет укладывать всех спать. Не то чтобы мне не давали покоя, на меня не слишком обращали внимание, но все же для полного успокоения мне нужно было остаться совсем одному, будто сраному хикки.
После ужина я все-таки немного оживился. Сам поел к тому же, а то я забыл даже про еду, воду, курево за день. Вроде бы и в туалет не ходил. Я снова подозвал женщину с нашего этажа, которой можно было доверять, и попросил ее остаться здесь за главную, пока меня не будет. Почти все врачи и медсестры уже разошлись по домам, поэтому мое отсутствие могло остаться незамеченным.
Но я пошел не к Землянике, а решил раздать оставшуюся одежду. В первую очередь я подумал о Фадеевой, давно я не навещал ее, она уже успела перевестись с острого этажа на нормальный. Я отправился к ней с пакетом в руках и трагическим выражением лица, будто бы мы с ней играли в пьесе. Фадеева это только подтвердила.
— Мам! — крикнула она, как только меня увидела, и побежала ко мне навстречу. Фадеева вцепилась в меня, согнулась и обняла за живот. Мне стало неловко, лишь бы никто не видел, и я мягко пытался ее отцепить от себя.
— Я тоже очень рад тебя видеть. Хорошая ты такая, только давай будем обниматься поменьше.
Через несколько минут мне все-таки удалось уговорить ее подняться.
— А я думала, ты больше не придешь. Я плакала, не могла так.
От стыда у меня горели уши. Этажей было много, я дежурил на разных, а к Фадеевой меня давно не ставили. Но я ведь мог дойти и сам, и она бы не плакала. Это я еще здесь работал, а что будет, когда перестану. Привязал всех, а потом бросил.
— Я же не каждый день работаю, а еще на других этажах бываю, — начал я оправдываться, но остановил себя. Вряд ли бы эти слова помогли ей почувствовать себя нужной. Прости, значит, Фадеева, ты просто моя работа, ни капли не потрачу лишнего времени на тебя.
Она повела меня к своей кровати, стала показывать немногочисленные игрушки. Среди них у Фадеевой была особенно любимая — конь, поющий поздравления к двадцать третьему февраля. Может быть, кто-то из медперсонала принес, а может, таких подарили на праздник жильцам мужского отделения. На самом деле в интернате было довольно много выездных мероприятий: концерты, парки, церкви, правда, ездили в основном самые крепкие психикой, не проблемные люди. Оттуда они могли возвращаться с подарками, может, и здесь так. У Фадеевой вроде бы не было мужчины из корпуса напротив, но, может, за ней кто-то ухаживал или подарил просто так.
Фадеева все нажимала на пузо коню, чтобы он пел, снова и снова, и сама легонько улыбалась. А песня была такая — переделка рюмки водки на столе. Бред полнейший, что для мужчин эта дата — главный день календаря. А еще конь желал, чтобы мужчины не печалились никогда и что он их поддержит, а дома ждут их семьи. Премию человеку, который принес сюда этого коня. Впрочем, Фадеева была в восторге.
Мы слушали эту песню до тех пор, пока не пришла другая девушка, вся из себя деловая, и не сказала выключить всю эту шарманку.
— Ты приходи чаще, — тогда заговорила Фадеева. — И всю одежду мне приноси, другим не давай.
Она стала показывать остальные свои вещички, периодически обнимая меня и порываясь поцеловать в щеку. Я узнал, что у нее вчера болел зуб, а Ира ее достала, все время говорит выключать радио. Оно у нее тоже было, и в списке вещей, которые Фадеева просила меня принести в следующий раз, оказались батарейки для него.
Потом она подарила мне рисунок — Барби с желтыми волосами и блестящим платьем, она наклеила на него какие-то блестки. Я сказал, что повешу у себя над тумбочкой, но соврал, просто хотелось сделать хороший комплимент.
И к чему я вечно так хочу всем понравиться? Легкая аудитория.
Потом она вспомнила про пакет, который я еще вначале ей вручил, и захлопала в ладоши. Она разбирала его, и какая-то мамина одежда ей нравилась, на какую-то она смотрела с разочарованием. Мне казалось, что восторг у нее могли вызывать совершенно не похожие одна на одну вещи, но я не разбирался в моде, не мог судить, как девчонки.
Фадеева вдруг решила померить блузку, которая ей понравилась больше всего, белую, из летящей ткани, и тут же приступила к делу. Я еле успел выскочить из палаты, чтобы не увидеть ничего лишнего.
А потом я взял и сбежал. Крикнул Фадеевой, что рад был увидеть ее и обязательно зайду к ней через два дня. И ушел к себе на этаж как последний трус, оправдывая себя тем, что мне надо быть там обязательно, чтобы с девочкой с ручками ничего не случилось.