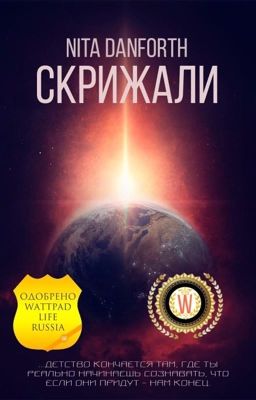7.
Демоны «Гоетии».
Я поначалу глазам своим не поверил. От латинского Ars Goetia — демоны, перечисленные в первой части магического гримуара «Lemegeton Clavicula Salomonis» — «Малый ключ Соломона» — опять-таки латынь! Конечно же, я был знаком с этими материалами, не подробно, но всё же знаком. Просто, демонологией я никогда не увлекался, да и не ожидал я увидеть этого сейчас!
Принц Ситри — один из семидесяти двух демонов, которых царь Соломон, по легенде, заточил в бутылке, — двенадцатый дух, великий принц. Якобы, при вызове заклинателем, появляется сперва с головой леопарда и крыльями грифона, но стоит мастеру произнести заклинание, — и Ситри может принять человеческий облик и при том очень красивый. Он разжигает любовь мужчин к женщинам и женщин к мужчинам и, если имеется желание, может также показать их обнаженными. Ситри управляет шестьюдесятью легионами духов.
Вот и как я — разумный человек мог поверить в подобное? Мне не пять лет, я не верил в сказки! И если кто-то видит нечто с крыльями грифона и головой леопарда, то этот кто-то либо под кайфом, либо шизофреник. Ну, или штатный учёный суперсекретной лаборатории, балующийся генетическими экспериментами. А я просто выжил из ума от перегруза, — только и всего!
К чёртовой матери это всё!
***
Наутро я уже обивал порог поликлиники. Взяв направление к невропатологу, смиренно ожидал своей очереди в коридоре. И потрясло меня вовсе не то, что я сбрендил.
— Молодой человек, я ещё раз вам повторяю, всё с вами нормально, — скучающе увещевал психиатр в больнице, к которому меня участковый невропатолог направил. Мужик в годах, восседая за светлым столом, бесцельно крутил результаты МРТ, явно ничего феноменального в моих мозгах не наблюдая. — Обследование никаких отклонений не выявило. Возможно, легкий стресс, переутомление, просто возьмите небольшой отпуск, отдохните — и сами увидите, что всё наладится.
— А я вам ещё раз повторяю, что со мной что-то не в порядке, — гнул я свою линию, сидя напротив доктора. Чёрт его возьми, ну выписал бы мне уже какие-нибудь пилюли, да и дело с концом. Нет же, закланник Гипократовский, артачится!
Прохладный кабинет в светло-голубых тонах поглотило мгновение тишины.
— Вам что, повестка из военкомата пришла? — вздохнул доктор, смотря на меня тусклыми глазами. — Что-то рановато, вы обычно по весне, да по осени ко мне в клиенты норовите.
— Да какая повестка, я – студент! — выпалил, неожиданно для себя весьма нервно и громко. Прочистив горло, машинально поправил очки за дужку и, подавшись чуть вперёд, облокотился на стол. — Говорю же Вам, — продолжил, уже куда более сдержанно, — у меня шумы какие-то в голове, едва ли не на голоса похожие, боли несуществующие, галлюцинации! Провалы в памяти! Со мной никогда такого не было!
— Ну, вот видите — не было, — покорно согласился доктор, не обращая внимания на мой заполошный тон, который даже меня удивлял. — А Вы мне едва ли не катаральную шизофрению описываете. Ступайте домой, Беркович, и, как следует, отдохните.
В общем, стало ясно, что спорить с ним бесполезно. Доктора — педанты, они ежели по факту не видят болезни в этих своих анализах, значит, её и нет.
Я был настолько измождён внутренними метаниями в попытках понять, что же случилось со мной, что в конечном итоге просто забил. Если повторится, тогда и буду думать, а если то была единичная акция, значит, верно — просто стресс, устал, переучился. Мозг штука тонкая.
Спустя неделю я уже и позабыл о случившемся, продуктивно поработал над дипломом, доводя до ума. Подтянул математику, за что спасибо Лёлику, сидящему на больничном. Починил два компа, в связи с чем немного разжился деньгами. Даже рискнул пригласить Юлю на каток в эти выходные. Но затишье, как оказалось, было перед бурей.
В среду, когда мы с мамой и Ксюхой ужинали, а батя, после суток отсутствия по работе, отсыпался, у меня вновь этот долбаный шорох в голове распросонился.
Не знаю, что мною двигало в тот момент, но, проанализировав случай с Юлей, решил проверить одну гипотезу. Чувствуя, что левую руку иголками покалывало и, слыша, как нарастал тихий неразборчивый монолог, я осторожно обхватил маму за запястье.
Смотря на неё, пытался разобрать шум в голове, и вдруг стены поплыли. Лишь едва завидев окровавленные плёнки, захотел сбежать оттуда. Но на этот раз я был готов и был внимательнее.
Всё происходило слишком медленно, я погружался целую вечность, будто на дно Марианской впадины, под толщу воды. И коснувшись дна, видел всё смутно и крайне заторможено.
После недавнего посещения больницы, обстановка казалась очевидной. Эти своды принадлежали лазарету: и кафель, и кушетки, и люминесцентные лампы — всё напоминало больничные пенаты.
Плёнка.
То были ширмы, отгораживающие кушетки, будто пчелиные соты.
И кровь.
Её запахом был пронизан воздух, солью оседая на губах и скапливаясь в лёгких тяжёлой, влажной эссенцией. Её следы виднелись всюду: в стыках кафеля, на полу и стенах, как бы не пытались их отмыть, на каркасах кушеток; прозрачная пелена ширм и простыни были окроплены зловещими рубиновыми каплями.
Я до кровавых жатв — не эстет. Мне сложно было вообразить, что повлекло это море крови. Война? Болезнь? Всё в равной степени вполне вероятно.
Кажется, кусочки льда западали между ударами сердца, пока скользила мысль о том, почему я видел это, и почему всё так... словно бы ненатурально. Когда мне предстало поле синей травы, я даже чувствовал её на ощупь и мог контролировать движения. Так же было и в том пожаре, который я будто с изнанки видел. Здесь — нет. Хотелось отступить, пошевелить рукой, сделать хоть что-нибудь, но тело мне не подчинялось. Я даже не видел себя, вот даже ни краем глаза, словно и не было меня там.
Навстречу шли двое в униформе — один писал в планшет для бумаг, второй толкал каталку перед собой. Я был не в силах оторвать взгляд. Там, под белой простынёй, просматривались очертания тела, и на белой ткани постепенно проявлялись красные пятна.
Мне становилось сложно находиться здесь, мысли тянулись, словно горячий гудрон, остановились, и всё поплыло пред взором. Морок рассеялся, лишь медное амбре крови всё ещё витало в воздухе, отравляя реальность. Я отпустил мамино запястье, замечая, как ошеломлённо та на меня смотрит.
— Кли-и-им? Климушка, сынок, ты чего?
Ксюха, сидящая за столом напротив нас, аж макаронами чуть не подавилась.
— Бро, ты чё?
Отставил тарелку, так и не притронувшись к еде. Встал из-за стола, стараясь не выдать дрожь, охватившую всё тело.
Почему я видел это? Почему, коснувшись её руки?
— Спасибо, мам.
Мой голос дрожал. Чисто автоматически, по привычке поцеловав мать в макушку, я ощутил слабость в ногах.
И провалился.
Она кричала, так громко, что оглушала меня, и кровавая маска покрывала её лицо. Пальцы, вымазанные красным, сминали простынь под ней. Человек в маске и комбинезоне что-то поставил маме в руку, пока её тело изгибалось в истошном рёве. На внутренней части локтя осталась метка — три точки, образующие треугольник.
«Ветра затихли, и пали вестники.
Омыло море крови град над кладезем,
Там, где считают время в три луны те, кто не спят...»
Я отшатнулся столь резко, что налетел на швейную машинку у окна. Плетёная чашка с нитками упала на пол, и клубки раскатились по всей кухне.
Две пары глаз взирали на меня крайне обескураженно. Мама прикрыла рот ладонью, и тревога, исходящая от неё, словно током била, усиливая потрясение от увиденного. Ксюха мигом подорвалась из-за стола и, подлетев ко мне, обхватила за плечи.
— Клим, приди в себя, чёрт возьми! — сестра встряхнула меня за плечи так, что аж зубы клацнули. — Что с тобой такое, блин?
Столько истинного беспокойства я навряд ли когда видел на её лице.
За спиной что-то грохнуло по стеклу. Обернувшись, обнаружил след от снежка и машинально посмотрел на соседнюю крышу, ибо не каждый сможет забросить снежок до пятого этажа; но там никого не было. Только в вечернем небосводе слабо переливалась сияющая лента. Точь в точь такая же мерцающая, как северное сияние, какую мне уже случалось видеть. Ксюха проследила мой взгляд, но лишь сильнее нахмурилась, пытаясь заглянуть в глаза. Сообразил мигом.
Она не видела! Никто не видел! Иначе бы давно уже молва пошла. Эта лента в небе, вилась словно для меня лишь одного, — знамя крадущейся смерти...
Отстранив от себя сестринские руки, проскочил мимо Ксюхи, не сказав ни слова.
Я просто не мог говорить, не мог находиться там, и вылетел с кухни в коридор. В спешке натянул пальто, обулся и вышел прочь из дома, пока пластинка крутила в голове слова, что я не желал слышать.
Она умрёт.
Они умрут!
Все мы! Все!
Что-то случится, что-то движется на нас огромной волной на поражение. Великое бедствие, нас всех ждёт чудовищная катастрофа!
Я замер только в соседнем дворе, распугав стайку голубей под светом фонарей. Сизокрылые взмыли в хмурое тёмное небо, кроющее звёзды за облаками.
Вестники.
А ведь именно голубка принесла весть на ковчег — весть о новой земле, о суше, — веточку в своём клюве. О чём я думал? Какая ещё катастрофа? Какая голубка? Что за бред?!
Схватившись за голову, стоя посреди улицы и, не беспокоясь о косящихся на меня редких прохожих, не мог прийти в себя. Бабки на лавочке, у подъезда пятиэтажки, зашепталась, поглядывая на меня. В этот миг отчего-то вспомнил рассказ одной нашей соседки, из уст моей матери. Вроде, какой-то её племянник страшно болел в детстве, врачи не могли ничего поделать, всё твердили, медицина, дескать, бессильна. И родители отвели ребёнка к какой-то бабке, вроде как целительнице; сильная, якобы, ведьма. В общем, только она и избавила парнишку от недуга. Якобы.
Естественно, мой врождённый скептицизм не позволял отнестись к этому всерьёз. Но порой, видимо, стоит отбросить прагматизм и попробовать вкусить этот суеверный яд — яд для трезвого ума, что, подобно анчару, отравляет всё, с чем соприкасается.
Уселся на свободную лавочку, подальше от трёх старых сплетниц, что какого-то лешего засиделись на улице допоздна, и залез в интернет с мобильного. Оказывается столько этих «ведьм». И порчу-то они снимают, и от алкоголизма лечат, и дерут-то, шельмы, втридорога! Я, сдаётся мне, неверно избрал профессию. Стоило в колдуны податься, деньги бы лопатой грёб.
Рядом со мной приземлилось увесистое тело. Вздрогнув от неожиданности, повернулся на негаданного компаньона.
— Здорова, Клим! — широко и нагло улыбнулся Витёк. Глянул на двух его вечных спутников.
— Привет, ребят.
Витёк закинул руку на спинку лавочки и развернулся в пол-оборота, упираясь кулаком в колено.
— Чего невесел? — поинтересовался он на старый манер, с очевидным подколом. — Аль не рад нам?
— Да, тут... проблемы, — замялся я. — Неважно.
— О! Проблемы? Так, мож, это... порешать чё надо?
— Или кого?.. — уточнил Серый прокуренным басом, и вся троица заржала над «удачной» шуткой друга.
Не успел я тактично отказаться от столь сомнительной помощи, как Витёк ушло выхватил смартфон из моих рук.
Впрочем, улыбаться он прекратил очень скоро, ибо вкладки открытые в браузере, были, прямо скажем, жутковатого содержания.
— Так, те, чё бабка, что ли нужна?
— Ну, вроде того.
Мне стало так стыдно и неприятно, в том числе от предчувствия не слабой увеселительной компании по мою душу. Витёк вернул телефон, почёсывая затылок, а у самого морда тяпкой, и глядел он на меня, как на дубину стоеросовую.
— И на хера?
— А чё, — подал голос Жид — коренастый такой паренёк, прятал руки в карманах пуховика. — Помнишь, у меня в прошлом году то ли пневмония, то ли ещё какая замута с легкими была? Даже в больницу ложили. Всё чего-то обследовали, а лечить — ни фига не лечили. Думали, загнусь. А мамка моя к какой-то бабке сходила, и как отшептало. До сих пор, хоть бы хны.
— Да харе гутарить, Жид! — издевательски рассмеялся Серый. — Бабка, ага. Разводи бобы-то!
— А что за бабка? — решил я осведомиться. Жид несмело пожал плечами, поскольку Серый всё ещё скептически ухмылялся, а Витёк немного недоверчиво косился на парня. Он хоть ничего против и не сказал, но явно подумал.
— Так, возле стадиона живёт. К ней много кто ходит.
Вот, и меня нелёгкая занесла к этой бабке, уже на будущий день.
Жила эта ведьма в обычном домишке, в частном секторе за стадионом. Таких обветшалых, побелённых с синькой домов со ставнями и верандой — тысячи. И ничего-то в нём особенного не наблюдалось. Снаружи. Хотя, кое-что меня удивило сразу же — во дворе не было собаки, как это обыкновенно бывает на подворье частных домов. Причём калитка-то, как и вся изгородь, весьма хлипкие были на вид: доски уже подгнили и явно давно не крашены.
Едва прикрытая калитка немного качалась, поскрипывая от ветра. Снега в огороде по пояс навалило, хотя тропинка к веранде была протоптана. Окна, сплошь завешанные тёмными шторами, выглядели совсем непритязательно.
Поднялся на скрипучее крыльцо, постучался, раздумывая, а не плюнуть ли на всё это дело?
Дверь распахнулась, являя на пороге пацана лет двенадцати: русый, лохматый, карие зенки воровато посмотрели за мою спину. Он шмыгнул носом и спросил:
— Тебе чего?
А я стоял истуканом и понимал, что это полный абзац. Заурядный молодой студент, закоренелый скептик, так-то на минуточку, стоит и шапку мнёт на пороге бабки-целительницы, или кто она там есть. Ну, не идиот ли?
— А, ты к бабуле, что ль? — без моего ответа сообразил пацан. — Ну, заходи.
Он отошёл от двери, пропуская меня на веранду, и вошёл в дом, оставляя двери отрытыми.
— Ба! — крикнул он, и его неровный голос, явно на стадии возрастной ломки, отдалился. — Тут к тебе пришли!
Огляделся в сенках: вдоль стены стоял раритетный комод цвета морёного дуба, застеленный бордовой скатёркой с бахромой; какие-то ящики, ведра. Под балки подвешены вязанки из трав, вениками свисающие с потолка, на стене стальное корыто и легендарный чулок с чесноком. В общем, сенки, как сенки. Вот только окна занавешены плотными тёмно-синими шторами, и источником света служила лишь одинокая лампочка по центру, висящая прямо так, без плафона.
Прикрыл за собой входную дверь, утёр ноги об аляпистый половик в пороге, — явно кусок некогда большого ковра советских времён.
Зашел в дом и немного окаменел.
Мрачно так внутри, темно, хоть диагеновский фонарь зажги. Проблеск света виднелся лишь в конце коридора, — там лохматый пацан застыл в дверном проёме.
— Туда вон иди, — показал он направо и скрылся в комнате, закрыв за собой дверь. А там справа поворот. Чувствуя странный запах из смеси трав, сырости и чего-то ещё, осмотрел ковровую дорожку, застилающую деревянный пол, и благоразумно разулся, оставив обутки у порога.
Вышел из-за угла, миновав тёмный коридор, и воткнулся в шторы, служащие дверью, по всей видимости. Отодвинул тёмно-бардовую ткань, и в нос ударил запах жжёной травы, кофе и старости. Да-да, у старости есть запах, он может переплетаться с другими, но этот гнетущий, странный аккорд распознаётся моментом, на уровне инстинктов, ведь все мы явно или скрыто, но боимся старости. Боимся смерти.
Небольшая комната, на первый взгляд, казалось, доверху была набита всяким хламом. От асимметрии в тусклых, мрачных тонах рябило в глазах, пока искорки не вонзились в зрение. Здесь горели свечи. Немного, — всего четыре штуки и все в разных углах, на полочках. Я, было, подумал, что эти полочки похожи на иконостасы или алтари, но довольно скоро моя догадка развенчалась, ибо пентакли имеют мало общего с религиозной атрибутикой. С христианской, по крайней мере, точно. Мне вдруг стало казаться, что та моя идея, плюнуть на всё это, была весьма хороша.
У стены, завешанной громадным гобеленом с изображением картины весьма эпичной битвы, но мне не известной, стояла койка: обычная, панцирная, покрытая вышитым покрывалом и с подушкой, поставленной треугольником. Сразу как-то вспомнилось глубокое-глубокое детство: солнечное лето, деревня, бабушка с дедом, луг, речка, лес. Вспомнились коренные жители, с их культурой, шаманизмом, легендами о духах и байками о Мэнке — снежном человеке. Так, на самом-то деле, тепло от этого стало. До тех пор, пока я не нашёл наконец-то взглядом, во всём этом этническом тёмном ансамбле, старушку со сморщенным, как высушенное яблоко, лицом. Она сидела за маленьким круглым столиком, ближе к дальнему углу. Голову ведьмы покрывал чёрный платок, завязанный как-то по-цыгански. Сухими костлявыми пальцами она тасовала колоду карт: по размеру они сильно отличались от обычных, и рубашка у них выглядела странно, чёрная с красным узором.
— А-а-а... — протянула скрипучим голосом старушка, даже взор не подняв. — С чем пожаловал, ханурик?
Вид у меня, наверное, не самый презентабельный был. Ещё бы, всю ночь не спал, ворочался, от мыслей только что на стену не лез. Лицо с утра осунувшееся, серое, не хуже чем у этой бабки, самого в сон так и клонило.
— Мне в последнее время видится всякое, — ответил я, осторожно подходя к столу, покрытому такой же бордовой скатертью с бахромой, как комод в сенках.
— И что видится?
Бабка отложила пухлую колоду и вытянула из коробка на столе спичку. Взяла какое-то устройство похожее не то на длинный тонкий мундштук, не то на трубку, подожгла спичку от пламени свечи на столе и прикурила. Мне не понравились её ногти — длинные, заостренные и, у основания ногтевой пластины, потемневшие, я бы даже сказал, почерневшие, будто их прижали.
— Да, когда как. Врач сказал, здоров, а...
— А всё равно видится? — перебила ведьма, впервые поймав мой взгляд. Я вздрогнул. Глаза, вроде бы, как глаза, просто светло-голубые, но в них не было времени. Этой бабке лет девяносто, а глаза, не то чтобы молодые, но в них отсутствовал тот мутный оттиск, присущий пожилым людям. Они были какие-то стеклянные, малоподвижные, и взгляд тяжелый такой, я, если честно, даже вспотел немного. Впрочем, наверное, жарко стало.
Расстегнув пальто, сел за стол напротив бабки. Она в течение минуты, не меньше, просто смотрела на меня этими неживыми глазами, потягивая едкий дым через странную трубку-мундштук. Завладев старой, изрядно потрёпанной колодой, бабка, на изумление ловко, выложила несколько карт на стол, рубашкой вверх. Тогда лишь понял, по формату карт — это таро. Вообще, многими, конечно, легендами обросли эти карты, особенно их происхождение. По одной версии, появились они в средневековой Италии, по другой — в древнем Египте. Но достоверно, так и не установлена точка отсчёта истории таро.
Мне показалось, что эта ведьма выкладывает карты в форме буквы «Ж» — фигура больно походила на жука. Или на положение в котором я оказался. Дряхлая ворожея взяла одну карту из комбинации на столе, не показывая мне; другую, третью.
Огниво свечи дрогнуло, словно скакнуло на фитиле, но сквозняка я не почувствовал. Бабка отложила колоду, отстранилась, откинулась на спинку стула; мундштук завис у её тонкого рта, пока она рассматривала три карты в своей руке.
В остатках колоды, точнее на их рубашке, я всё рассматривал узор, что-то в нём волновало меня. То был геометрический орнамент из девяти элементов, связанных меж собой вокруг автономной окружности. Мне это что-то напоминало, но я никак не мог сообразить, что конкретно.
— Ну и что? — поинтересовался я, блуждая взглядом по «жуку» на столе.
— Ничего, — ответила она как-то глухо, не отрывая взгляда от карт.
— Совсем?
— Совсем ничего. Ступай.
Растерявшись, попытался поймать её взгляд, но она упорно смотрела на три карты, даже не двигаясь.
— Но такого же не бывает?
— Всю жизнь считал так же.
«Считал?»
Это дёрнуло моментально, я по привычке чуть было не исправил оговорку, но она утратила значимость, когда бабка подняла на меня глаза и сбросила карты на стол.
Они были пусты.
Просто чёрный фон отороченный золотом, без какой-либо символики.
Я тяжело сглотнул, ощущая растущий хаос внутри из шока и паники, что сворачивала кровь в жилах. Меня так и подмывало глянуть остальные карты, я вскочил на ноги, ринувшись к раскладке на столе, но бабка меня опередила, переворачивая комбинацию, карту за картой — но ничего!
Следом она рассыпала веером остатки колоды, и там символичные картинки были на месте.
—Никак не могу понять, с чего ты вдруг вообразил, — заговорила бабка и голос её исказился и стал звучать мужским, - что способен обойти меня, хоть на полшага. А ведь я до последнего верил, что у тебя хватит рассудительности, чтобы отказаться от идеи меня заменить. Я же знал об этом ходе заблаговременно, на что ты рассчитываешь?
В её мёртвом взгляде на меня читался благоговейный страх, но её голос противоречил её образу, будто сам дьявол стоял передо мной или она сама была одержима. Она старалась сдерживать это, спрятав за непроницаемой маской, но тихий ужас, исходящий от окостеневшей, высушенной фигуры, был слишком очевиден. И очень заразителен.
Горло сжалось, словно шею туго затянуло в хомут, сердце зашлось диким тамтамом в груди. Я почувствовал, как бисеринки ледяного пота покатились по спине, вызывая мерзкую дрожь в теле. Пространство перед взором пошло рябью, и показалось мне плоским, едва ли не двумерным. Не проронив ни слова, я попятился, некрепко держась на ногах и, споткнувшись об свою же ногу, едва не упал. Я не ушёл, я просто умчался оттуда, даже не обувшись, просто подхватив на ходу кроссовки.
Со мной творилась какая-то чертовщина, я никогда всерьёз не смотрел на все эти суеверия, но прямо сейчас предельно чётко сознавал, что каким-то образом стал объектом дьявольского промысла! В ту же секунду, отрицание било меня по лицу, отказываясь от ядовитых предрассудков.
Залетев домой, запыхавшийся и совершенно сбитый с толку, всё пытался убедить себя в том, что эта бабка — шарлатанка, забавляется так, на старости лет. Скучно ей, вот она и нашла себе потеху. А врач мог и ошибиться, люди склонны к ошибкам, и доктора — не исключение.
Захлопнув за собой дверь, я стёк по ней на пол. Свесил руки с колен, видя, как из зала вышел отец, почёсывая живот, явно только проснувшийся после суток на работе. Увидев меня, батя подошёл и присел передо мной на корточки.
— Ты чего это? — спросил родитель, обеспокоено блуждая по моему лицу, и его грубый голос звучал мягче обычного: — Стряслось у тебя что-то? Ну, чего молчишь-то? Ай, давай, вставай, — он выпрямился во весь рост, заманивая меня рукой. — Вставай, я тебе говорю, а-то расселся, понимаешь ли, на полу...
Поднявшись на ноги, поплёлся за отцом на кухню. Батя достав из холодильника бутылку коньяка, указал мне на табуретку.
— Садись.
— Пап, я...
Отец со стуком поставил бутылку на стол.
— Сядь, кому говорю.
Перечить не стал — сел.
Батя достал две рюмки с верхней полки светло-орехового гарнитура.
— Ну, что с тобой такое? Мне мать сегодня сказала, что ты совсем от своих книжек того... Ку-ку, понимаешь ли.
— Может, — вздохнул я, стянув очки, и отложил их на стол.
— Да ну, слушай бабу-то, ага, — иронично отмахнулся отец, начисляя по сто грамм коньяка в рюмки. — Много она, вишь ли, понимает! Нормально всё будет, закончишь ты свой институт, ты же умный парень, что ты, понимаешь ли, дуру-то гонишь? — он поднял свою стопку, словно в тосте. — Нормально, я тебе говорю, всё будет.
В любой другой день, я бы, безусловно, с ним согласился. Всегда так было — нормально.
Но ключевое слово здесь — «было».