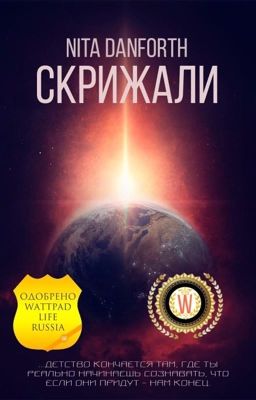8.
Бессонница открыла на меня охоту. Подобно тёмному ассасину, какая-то паранойя пасла меня всюду. И все — все кругом видели это, ведь я сам на себя перестал походить. За считанную неделю я превратился в раздражительного отшельника, замкнутого в себе под громадный амбарный замок. Перестал нормально есть, спать, думать, меня преследовал шум, он с маниакальным упоением шептал мне откровения, смысла которых я в упор не понимал. Да и не хотел. Я не хотел всей этой жути, я мечтал воротить назад удела своей жизни, своей нормальной, размеренной жизни, плоской и наполненной сотнями старинных книг и родными людьми. Но треклятая делирия просто вбила меня в тёмный угол и, сломив волю, оставила тряпичной куклой, жалким подобием человека, читать мантры пустоте, только бы не слышать гласа дьявола. Всегда знал, что зло — творение рук человеческих, что не существует никакого тотального высшего зла. Человек и есть зло. Порой сам себе.
Вероятно, не будь я таким упёртым, и не загонял себя, помыкая «розгами учения», с моей головой сейчас всё было бы в порядке. Вот только учёба никогда не была мне пыткой, я не истязал себя, наука была мне в кайф. Так, где же, и когда, гранитный камень врезал мне по темечку? Врезал до той степени, что во мне заговорил дьявол, открывая страшные видения, что адом сущим вторгались в мою привычную укомплектованную реальность.
Я отключил телефон, прекратил выходить из дома, даже в универ. Проходя учебную программу, не покидая стен квартиры, ссылался на трудоёмкую работу над дипломом. Хотя и не касался его, зная, что только запорю всё к чертям, пока в столь незавидном состоянии Повешенного. Но всегда были книги, которые меня понимали с полуслова. Только это занятие и удерживало в шатком балансе — чтение. Едва заслышав шёпот, я начинал читать вслух, сталкивая в жестокой сече свет науки и мракобесие предрассудков. А треклятые строки стали проявляться на коже с бравурным постоянством, и одной рукой уже не ограничиваясь — начертания проносились в такт чёртовым исповедям: по шее, рукам, торсу, — я чувствовал эти жала, ощущал, как они вонзались в мою плоть, проявляя неведомые знаки на коже; слышал их, видел! Но отрекался от всей этой фатальной ереси, читая вслух, пока в один из воскресных вечеров, в мою дверь не постучало спасение.
— Клим, тут к тебе гости.
— Мам, я занят! — крикнул, продолжая читать, сидя прямо на полу своей комнаты, погружённой во мрак.
— Клим! — вновь окликнула мама, тихо добавив: — Обожди минуточку, ладно?
Мать вошла в комнату и вырвала книгу из рук.
— Клим, ну оторвись ты от своих книжек хоть на мгновение.
— Да мама, ё-моё, — бросился тут же возвращать учебник, вскочив на ноги. — Ну, что ты...
Я заткнулся незамедлительно.
— Привет, — и хрипло-сладкий голосок обрушил мою крепость, обжигая светом демонов, захвативших разум.
Немного смущенная девушка стояла за спиной моей матери, в дверях комнаты, и теребила кулон на цепочке.
— Здравствуй, Юль.
Ком, застрявший поперёк горла, от нахлынувших воспоминаний, прекрасных и ужасных, мешал говорить, а сердце, отчаянно забившись в груди пленной птицей, — ясно мыслить.
Мама отложила книжку на стол и неодобрительно зыркнула на меня, прежде чем бросить уходя:
— Ну, я пойду.
Покидая комнату, мать улыбнулась Юле, проходя мимо, и оставила неловкую тишину, которую только мгновение спустя нарушила девушка, негромко спросив:
— Ты забыл, да?
Кармическая трансляция Лёлика в подсознании едва ли не билась головой об стену, изощрённо матерясь, когда до меня дошло.
Сегодня. Я ведь сам, ещё в начале недели, пригласил её: хотели сходить сегодня на каток.
— Прости, — вот и всё, что я сумел сказать. Не найдя более подходящих слов в своё оправдание, тяжело бухнулся на край кровати. Я устал, кто бы только знал, как я был истощён и морально и физически от этого сумасшествия. Истинно задолбался! И даже не знал наверняка, безумец я, или провидец. Но раз задумывался о втором варианте, то ответ очевиден. И, сдаётся мне, я начал понимать сумасшедших, кончающих с собой — они просто устают. В безумии нет ничего увлекательного, ничего изысканного и возвышенного, оно загоняет в угол, лишая нормальной жизни, заставляет прятаться от мира, швыряя в беспросветное одиночество, и пожирает человека изнутри, медленно смакуя его страх. Безумие не питается разумом, оно питается страхом.
Юля несмело прошла в комнату, кочуя взглядом где угодно, только бы не смотреть на меня. Я, наверное, сильно её задел, обидел, уверен, нет таких кретинов на свете, способных забыть о такой очаровательной девушке, светлой, как утренняя Киприда.
Она подцепила издание Грибоедова со стола, рассматривая обложку, и заправила кудрявый локон за ушко.
— «Горе от ума»...
Наши глаза встретились, и в её, пусть встревоженных, было столько тепла и какой-то щемящей нежности, что заставляло сердце биться чаще. Стало безумно стыдно за своё эгоистичное упущение. Я всё это время не думал ни о ком, кроме себя, буквально зациклился, а ведь почему-то же она пришла?..
— Да, пожалуй.
***
Я не желал знать, почему эта удивительная девушка остановила шаг своей истории для меня. Почему просто не ушла и не вычеркнула навсегда, прождав меня десять минут — я не желал знать. Отчего тревожилась обо мне, ведь я совсем ничего не сделал, дабы заслужить эту заботу во взгляде янтарных, как заходящее солнце, глаз — не хотел этого знать. Я просто рассыпался по крупицам от радости, внезапно охватившей меня, честное слово, как мелкий мальчишка. И мракобесие отступало, в ужасе сбегая от света, ореолом окружающего мою маленькую Аврору. И я, естественно, знал, что она не была моей, не принадлежала мне. Но вот только какая-то часть меня всецело принадлежала ей. Что-то тусклое, никому не нужное, как вырванная страница. Она пылилась на заброшенной книжной полке, пока не попала в ладони той, что отряхнула страницу от пыли, и принялась читать. И страшит меня то, что ей предстанет — отвратительные лики демонов, возведших тёмный пантеон в моей голове.
До дна уже был испит удушающим мраком, слишком устал, чтобы двигаться дальше, но не настолько, чтобы совершенно жокрисовским образом упустить второй шанс. Пусть даже я, в принципе, неважный фигурист и не самый интересный человек, обитающий в своём обособленном моно-мирке, — всё это не имело значения. Какая, в самом деле, к чёрту, разница, если её это ничуть не смущало?
Ледовую коробку освещали прожектора и гирлянды крупных жёлтых ламп по всему периметру. Влюблённые пары, шумные компании друзей, семьи с детишками давали весёлый бал, оживляя это место.
Юля, улыбаясь и звонко смеясь, тянула меня за руку по скользкому льду. А я просто радовался этой отдушине, позволяющей перевести дыхание в побеге от сумасшествия.
Отпустив мою ладонь, Юля затормозила, входя в поворот, прямо передо мной, и мелкие всплески ледяной стружки осыпали с ног до головы.
Вязаная шапочка на ней, яркого лазурного цвета с помпоном, и буйные каштановые кудри покрылись инеем; им же были тронуты подвитые ресницы, заставляя взгляд искриться и мерцать. Её лицо раскраснелось от лёгкого мороза; особенное внимание февральский вечер уделил малость вздернутому носу. Уверен, мой шнобель он тоже вниманием не обошёл.
Я успел остановиться на расстоянии раскрытой ладони от неё. Клубы нашего морозного дыхания, сплетаясь в танце, стремились ввысь и сияли, подсвеченные светом. Очки немного запотели, оставляя взору лишь смутные очертания. Впрочем, без очков я видел ещё хуже, чем сквозь запотевшие линзы — светлое девичье лицо всё равно будет размытым, словно лёгкий акварельный набросок. Не иначе эфемерная аура лучилась вокруг Юли, создавая свечение. Она не была красавицей, она была феей.
— Кажется... — немного задыхаясь, сказала она с улыбкой. — Кажется, я устала.
— Немудрено, — усмехнулся я. — Мы, уверен, набили здесь колею!
Кто-то проехал слишком близко за моей спиной и немного пихнул в плечо. И без того крохотное расстояние сократилось в разы, и, казалось, взмах инкрустированных мелкими, зимними бриллиантами, ресниц — всё, что отделяло нас.
Протянув руку, спрятанную в варежке цвета сочной бирюзы, Юля стёрла с линз тончайшую пленку наледи. Она не подозревала, что сделала ещё хуже, но мне было плевать на это в тот миг. Маленькая ладонь, облачённая в мягкую бирюзу, легла на мою щеку. Юля блуждала взглядом в моих глазах, словно желая отыскать что-то важное. Она казалась слишком юной в этом мгновении, просто я помню этот тёплый жест.
Лет в одиннадцать я здорово шваркнулся с велика во дворе (раз сотый на своём веку), да так неудачно, что пробороздил мордой метра три. Естественно, ободрал пол-многострадального, и без того, не особо-то привлекательного. И я прекрасно помню этот момент, когда Юля заботливо обрабатывала, если это можно так назвать, ваткой, смоченной чистой водой, мои боевые ранения. Это запомнилось особо ярко, ведь то был миг, определивший вечность — я остро почувствовал, что меня невыносимо тянет к ней, и что я хотел поцеловать её, не блезиру ради, и не из любопытства, а, действительно, при одной лишь мысли об этом, ощущал необъяснимый трепет и страх. И что-то ещё, непередаваемое, томное, слишком сложное, то, что дух захватывает и поджигает кровь. Тогда я не особо ясно сознавал, что это за ерунда такая, но представления, в целом, имел.
Естественно, я постеснялся поцеловать её тогда. Но то было полжизни назад, где мы — беспечные дети, слепыми были ко всем ужасам мира сего, и сердцем ещё не прониклись к страстям.
А сейчас, мне знакомы многие стороны этого мироздания, даже те, походу, что не каждому увидеть дано, и мне страшно коснуться этих губ не оттого, что не смел, а потому лишь, что будет слишком больно вновь увидеть её смерть.
Я столь долго убивал в себе эту мысль, но она вновь и вновь пророчила гибель начертаниями неведомым почерком на моей коже, вселяя ощущение, словно бы её кровь на моих руках.
— Юль!
Ну вот, чёрт. А ведь я почти решился на «кровавый поцелуй», наплевав на риск галлюциногенной атаки...
Юля встрепенулась, будто только что очнулась, и выглянула из-за моего плеча. Девушка изумлённо округлила глаза, широко, приветливо улыбнулась, и я обернулся, чтобы узреть причину этого удивления.
— Привет! — воскликнула Юля.
К нам, на коньках, подкатилась девушка в бело-синей «горнолыжке». Высокая, темноволосая, с прямой, густой чёлкой. Заместо шапки — пуховые белые наушники. На лицо симпатичная, но неприятная, хотя, уверен, если стереть высокомерие, ситуация изменится в лучшую сторону.
— Привет... — протянула брюнетка, улыбаясь, но неискренно. Карие глаза мигом прошлись по мне оценивающим взглядом, долго задерживаясь на оправе очков. — Вот так встреча!
Мне казалось, я её знал, и, судя по тому, что приветствие брюнетки относилось и ко мне тоже, мы определённо были знакомы. Но я, хоть убей, её не помнил.
Девушки завели стандартный разговор: какими судьбами, как дела, что новенького, и всё в таком духе. Я чувствовал, что брюнетка не испытывает огромного энтузиазма от этой встречи, хотя Юля была с ней предельно мила.
Казалось, что цель эта встреча имела только одну, и, когда брюнетка, выпытав информацию из Юли, принялась хвастать своими достижениями, подозрения оправдались — обыкновенное павлинье дефиле. Я к тому времени уже вспомнил девушку. Она училась с Юлей в одной школе, в параллельном классе, и я пару раз видел их вместе, просто пять лет уже прошло, я её сразу-то и не узнал. И судя по её реакции, я — вообще последний парень, которого она ожидала с Юлей увидеть.
Но тут уж ничего не попишешь. Даже если снять с меня очки и приодеть — ничего не изменится. Я всегда буду гнаться за знаниями, а не за престижем. Всегда буду думать больше, нежели говорить. Буду любить тишину, позволяя мысленному чтецу, чей голос — мой собственный внутренний голос, пишет летопись в памяти, запечатлевая прочтённое. И мне нравилось это, мне так уютно, удобно, я привык так жить, такова моя суть и вся моя житейская философия. А если я вот такой, какой есть, не устраивал кого-то, был ли смысл наступать себе на горло, чтобы измениться? К тому же, где-то глубоко внутри, я всё же лелеял надежду, что кое-кому я нравился и так — молчаливым чудиком. Хотя, моя тяга к ней была эгоистична. Она же и не подозревала, что стала объектом притязаний безумца.
***
Обратной дорогой мы шли через парк. Фонари блёкло освещали путь, отбрасывая вытянутые тени на притоптанный снег. Белизна искрилась в спектре радуги, тронутая тусклым светом, так же, как загоралось что-то внутри от её голоса и смеха, говоря о том, что я круто влип.
Резвясь, Юля запустила в меня очередной снежок. Ответил залпом, нарочно целясь мимо, что она заметила и принялась возмущаться:
— Ну! Так не честно!
— Нет?.. — протянул я с сомнением.
Пятясь от меня, Юля изобразила крайнюю степень негодования на лице, тыча в меня маленькой ладошкой в варежке.
— Не честно! Ты нарочно поддаёшься!
– Чем докажешь?
Юля загребла в ладошки снег из сугроба вдоль дорожки и наскоро слепила ещё один снаряд.
— Встретимся в суде! — гордо вскинула подбородок девушка и запульнула в меня снежок. — Нанимай адвоката, мошенник!
Мигом ринувшись к Юле, я предотвратил сооружение очередной снежной гранаты, перехватив девушку за талию.
— У меня уже есть адвокат!
Взвизгнув, Юля засмеялась и узурпаторской подсечкой под мои ноги, ужасно не грациозным образом, определила нас в сугроб.
И, клянусь, я не представлял её в роли адвоката. Её живой характер никак не вязался с прагматичным образом юриста. Она могла бы стать фотографом, дизайнером, да просто даже арт-директором где угодно. Просто художником она была по своей натуре, была в корне творческой, креативной личностью, но адвокат... Неужели Юлин отец не видел этого? Или всегда видел, но не желал замечать? Что такое с людьми? Почему каждый третий норовит изнасиловать чьи-то мечты? Что за блажь такая? Неужели так сложно сделать хоть что-то, дабы воплотить свои собственные грёзы в жизнь? Это же куда лучше, чем видеть воплощение грёз на странице не своего дневника.
Хихикая в варежку, Юля устремила взор ввысь, и я услышал тихую трель, прежде чем заметил, на ком заострила внимание девушка. Снегири: две красногрудых птахи, нахохлившись, сидели на голой кленовой ветке. Так странно, что мы не спугнули их, бухнувшись в сугроб. Шум вечернего города заглушал птичьи позывки — короткие свисты «фю» с красивым меланхоличным оттенком. Никогда прежде не задумывался, как поёт снегирь, просто я мало смотрю по сторонам, моя вселенная сужена до размера буквы. Всегда так было, а сейчас что-то случилось со мной, и центр вселенной сместился. Эмпатия полностью сконцентрировалась на кучерявой маленькой авантюристке. Но в какой-то миг забвение улетучилось, — я почувствовал, что девичий смех искажён дыханием. Тяжёлым, хриплым дыханием.
Подскочив на ноги, вытянул девушку из сугроба, её лицо, ранее лишь тронутое румянцем, сильно покраснело, медовые глаза немного слезились. Юля обшарила карманы, и хмурость взгляда сменилась испугом, молнией пролетев в глазах.
— Выронила... — сильно осипший голос был пронизан еле слышным свистом. Юля, согнувшись, упёрлась руками в колени, ловя ртом холодный воздух.
Я растерялся. Испугался.
Сметая секундный ступор, бросился к сугробу, но, перерыв злосчастный снег, так и не отыскал ингалятор. Осматриваясь вокруг, зная, что ни единой аптеки нет в ближайшем километре, пытался вспомнить хоть один из безумных слайдов, что мог бы помочь. Но ничего, совершенно никаких намёков на эту ситуацию, никаких зацепок, подсказок. Я видел, что угодно, кроме своей жизни, и был крайне беспомощен пред негаданно возникшей бедой.
Бросился вспять, не заботясь об утраченной в ходе поиска шапке, туда, откуда мы шли, рыская взглядом по запорошенной снегом тропе. Сам не понял, как сумел заметить на белоснежном покрывале ингалятор, он лежал посреди аллеи, сливаясь с белым снегом. Подхватив белую изогнутую трубку с баллончиком препарата, поспешил к девушке. Юля сидела на скамье, откинувшись назад. Запрокинув голову, она смотрела в небо. Клубы пара, улетая ввысь, цеплялись за голые ветки клёна. И тут я с ужасом понял, что не приближаюсь.
Я шёл достаточно быстро, если не бежал, но ни один шаг не вёл меня к Юле. Я просто переставлял ноги на одном месте! Всё, абсолютно всё кругом замерзло в февральской стуже: редкие прохожие, частички снега в воздухе, пар запутался в ветках дерева, один я бессмысленно шагал по хрустящему снегу, словно персонаж компьютерной игры, застрявший в текстурах.
«Б-о-о-о-м-м!..» — обрушился тяжёлый давящий звук, глухой ударной волной. Он был осязаемым и буквально придавил меня к земле, так, что аж колени подогнулись. Задрав голову вверх, отчетливо увидел огоньки в небе, красные огоньки присущие самолёту, но они не моргали. Самолёт не двигался, будто завис над головами мёртвой железной птицей.
Переживая совершенное внутреннее крушение, воротил взгляд перед собой и ослеп от яркого света. А в голове волчком закрутилась одна единственная мысль — она умрёт.
— Может, скажешь мне, наконец, что мы здесь делаем? — тут же услышал я незнакомый голос, не видя его обладателя в бесконечном море света. Но интонация резанула слух идеальным калёным лезвием.
— Есть точка, есть приказ: ждать, — ответил голос, более низкий и бесстрастный, но эти нотки в тоне... — Что конкретно тебе не ясно?
Зрение привыкло к белому зареву, проявляя всё вокруг и оставляя размытые пятна перед глазами. Белые туманные разводы на хмуром небосводе, едва рдеющем на востоке как в час раннего зимнего утра, — и я мгновенно осознал, где я. На крыше! На крыше пятиэтажки родного двора, той, что напротив нашей! И в нахлынувшем чувстве дежавю не ощущал более ничего: ни холода, ни стылого ветра, ни свежего, морозного запаха зимы. Я смотрел на свои руки, но не видел их, будто бы я – бестелесный. Это не на шутку напугало, я завертелся в поисках ответа, опоры, помощи, и всё это вмиг стало неважно.
Этого не может быть...
— Неужто, он даже тебе ничего не сказал?
— Так говоришь, словно я особенный, — надменно парировал один из носителей чёрного плаща, обращаясь к другому.