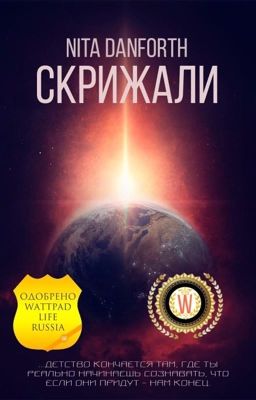2.
Никогда не любил зиму, а особенно идти куда-нибудь, ежели холод ныряет за воротник.
Новый год уже пробил двенадцать на курантах, отгремели все праздники, на дворе февраль заметал улицы колючей вьюжной метлой. Лишь конфетти на снегу, да тубы от фейерверков и бутылки шампанского в сугробах напоминали о минувшем событии.
На остановке, переминаясь с ноги на ногу, я ожидал поздний трамвай, благо «рогатые» до полуночи ходят. Вокруг ни души, все нормальные люди попрятались по тёплым гнёздам в железобетонных многоэтажных скворечниках.
Запрыгнул в подоспевший пустой трамвай, искрящий «рогами» о провода, и уселся у окошка. Вагон столь промёрзший, что даже очки не запотели от перепада температур. Стянув рюкзак с плеча, увесистый от книг и тетрадей, снял перчатки, пока приближалась, покачиваясь в такт трамваю, кондукторша. На удивление маленькая, юркая женщина, с ужасно худым лицом в обрамлении тёмных, сероватых прядок, торчащих из-под вязаной шапочки цвета вишни. Руки у неё тоже были тощими, с торчащими костяшками, и очень холодными — когда я передавал ей свой проездной, она коснулась моей руки. На краткий миг мне показалось, что она что-то тихо сказала, если бы я не смотрел ей в лицо, и не видел, что рта она не открывала, точно бы решил, что женщина говорила. Просто, словно бы лёгкий шёпот пронёсся мимо ушей. Впрочем, шум в вагоне трамвая советской конструкции, от топота колёс по рельсам, стоял весьма громкий, могло и показаться.
Она лишь улыбнулась мне, возвращая проездной билет, и ушла к кабине водителя. Я всё смотрел ей вслед, пытаясь понять, что слышал, почему-то это так заинтересовало.
Трамвай сделал остановку, подбирая припозднившихся пассажиров. Женщина, тем временем, стала говорить что-то водителю, жестикулировать, — и тут я сообразил, наконец, что она немая.
Интерес к недавнему шёпоту исчез, сменяясь лёгкой жалостью к миниатюрной кондукторше. Каково это, интересно, не иметь возможности говорить? Ведь, наверняка, её жизненный опыт, а ей с виду было лет сорок, вызывал желание поделиться без препятствий. Но вот ведь...
Пожалуй, одна из причин моего скептического отношения к ортодоксальной теории — так называемой теории создания. Думаю, что если и есть этот самый «создатель», то он, без сомнений, тот ещё садист.
Садисты с «нимбом» над головой вообще не новость. Да и в святые венцы я не верю, я больше доверяю тому, что над моей головой. Истина в небе. Да-да, именно в небе, в движении звёзд. Если кому доводилось знакомиться с документальной работой «Дух времени», по сценарию Питера Джозефа, тот поймёт, о чём речь. Но если вкратце, эдакая переводная картина корней всех религий:
Есть на востоке такая звезда — Сириус — самая яркая звезда на ночном небосводе, образующая 24 декабря единую линию с тремя ярчайшими светилами в поясе Ориона. Ныне три этих ярких звезды носят те же имена, что и в древности — Три Царя. Так вот, эти Три Царя и самая яркая звезда — Сириус указывают туда, где 25 декабря восходит солнце. Три Царя «следуют» за звездой на востоке, дабы определить точку восхода солнца или «рождения Солнца». Созвездие Девы или Девственницы (Virgo (Дева) с латыни переводится как «Девственница»), в упоминаниях также «Дом Хлеба», и изображалось как девушка, держащая сноп пшеницы. Этот «дом хлеба» и его символ — колос пшеницы, представляют август и сентябрь — время урожая. Этот «дом хлеба» дословно Вифлеем, и прямо указывает на место в небе, а не на земле. Но самый любопытный феномен, происходит в районе 25 декабря, именуемый зимним солнцестоянием: в ходе от летнего солнцестояния до зимнего дни становятся короче и холоднее, и с ракурса северного полушария кажется, будто бы Солнце, двигаясь на юг, становится меньше и тусклее. Сокращение дня и прекращение роста зерновых культур, приближаясь к зимнему солнцестоянию, в древности символизировали смерть.
То была смерть Солнца.
К 22 декабря спад солнечной активности был просто кристально ясен. Светило, перемещавшееся на юг непрерывно в течение шести месяцев, достигает самой низкой своей точки на небе. Здесь происходит интересное: наша мать-звезда, очень явственно, прекращает любое свое зримое движение на юг ровно на три дня. И во время этой трехдневной паузы Солнце останавливается вблизи созвездия Южного Креста, а после, 25 декабря, поднимается на один градус севернее, предзнаменуя большую протяжённость дня, тепло и весну.
Солнце, умершее на кресте, было мертво в течение трех дней, чтобы воскреснуть, или быть рожденным заново.
Ничего не напоминает, нет?
Распятие на кресте, трёхдневная смерть, а затем чудесное воскрешение — переходный период Солнца прежде, чем оно поменяет направление своего движения обратно в северное полушарие, принося весну.
Или спасение?
Египетский Бог Солнца — Гор.
Аттис Фригийский.
Индийский Кришна.
Дионис — Греция.
Митра — Персия.
Все они были рождены девой, творили чудеса, имели учеников, а после смерти воскресли.
Иисус Христос — история повторяется.
Любая религия — это пародия на поклонение солнцу. Величайшие мифы, имеющие полностью астрологический смысл. Толкование астрономических аллегорий древних, почитающих солнце и знающих о звездах. Оно и понятно. Издревле наблюдая за перемещением небесных тел, люди могли предсказывать долгосрочные события, например, затмения и полнолуния. Для удобства древние классифицировали астрономические группы в то, что сегодня называется «созвездия».
Тот же крест Зодиака, один из древнейших символов в истории человечества образно показывает, как Солнце в течение года проходит через двенадцать главных созвездий. Он же отражает двенадцать месяцев и четыре времени года, солнцестояния и равноденствия. И обращаясь к Кресту Зодиака, как к символу солнечного цикла, едва ли можно назвать его простой художественной интерпретацией или руководством для слежения за движением Солнца. Он более известен в качестве языческого духовного символа, упрощенная версия которого выглядит, как символ Христианства. Но это не символ Христианства.
Это — языческое представление Креста Зодиака.
Вот почему Иисус на более ранних иконах изображён с головой на фоне креста.
Поскольку Иисус — это Солнце.
Сын Бога.
Светоч Мира.
Вознёсшийся Спаситель, который придёт снова, как он делает это каждое утро; защитник от сил тьмы, заново рождённый на заре и видимый сквозь облака, на небесах, в своём терновом венке.
А точнее в лучах Солнца.
Выбросив это из головы, вышел из трамвая, и поспешил попасть поскорее в тёплую уютную квартиру, ускорив шаг. Фонари вдоль тротуара подсвечивали редко падающий снег. Скупая дорожка из песка, прикрывающая гололёд, выглядела не очень надёжно, потому я старался идти по заснеженному краю.
Ничего особо примечательного в вечернем городском пейзаже не наблюдалось: свет в окнах многоэтажек, фонари, рекламные вывески магазинов, голые деревья, редко проезжающие в столь поздний час машины, — потому предпочёл смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться и не расстелиться на льду плашмя.
Придерживая за ремень рюкзак, висящий на одном плече, сжал свободной рукой воротник чёрного зимнего пальто. Ветерок не сильный, но колючий, неприятный, кусачий. Холодно, как у ведьмы за пазухой, конечно. Я действительно пожалел, что с утра поспешил и выскочил из дому без шапки. Уши горели, и, уверен, налились пунцовым.
Свернул в проулок, — ещё пару минут, и я буду дома, пить горячий крепкий чай.
Уже возле своего подъезда, задрав голову, в привычном поиске света в кухонном окне, чуть было не споткнулся о поребрик. В тёмном небе разливалось слабое свечение, лазурные переливы, будто... далёкое северное сияние. Даже звёзд не было видать! Оно играло на небесном покрывале не дольше пары мгновений, а затем растаяло. Небо впитало в себя сияние, а я стоял как баран, пялился в тёмную высоту. Даже не с ходу уловил свист за спиной — смачный такой, и ничего хорошего не предвещающий.
— Э-эй, пассажир! — последовал за свистом развязный голос с явным «гоп-акцентом». — Куда спешим, Климентий Палыч?
«Да что, серьёзно, что ли?» — сокрушался я мысленно. — Двадцать два года, а ничего не меняется».
Держа ключи в руке, повернулся, и предстали мне три богатыря, эдакая «тригада» нашего двора — Витя «Топор», Серый и Жид. Все, как один в чёрных пуховиках, спортивных штанах с белыми лампасами, и в кроссовках. Некоторые вещи, действительно, не меняются.
Мы не только в одном дворе выросли, но и в одной школе учились. Меня они обычно не трогали, максимум ерунду какую-нибудь крикнут, сами над ней поржут, и на этом всё. Наверное, из-за бати моего. А вот Лёлику от них знатно перепадало. Вот Витя, который «Топор», у них вроде центрового; он-то в данный момент и выступил вперёд, недобро улыбаясь и разводя руками, будто дивясь чему-то. А мне уж было стало казаться, что всё это осталось в прошлом, как только я третий десяток разменял. Но у этих ребят срока давности объектов потехи, по всей видимости, не существует.
— Привет, Вить.
Оный повис у меня на плече, от чего меня недурно накренило вправо. Сказать, что меня, сея встреча изрядно напрягала, одно, что промолчать, пожалуй.
— Вечер добрый! — просиял Витёк, и неголивудская улыбка, с нехваткой зуба другого, отразилась на лицах двоих его приятелей. — Да ладно-ладно, не ссы. Я тут это, Ксюху твою видал, да... С кентом каким-то мутным.
В нос ударила смесь из табачного дыма и алкоголя от клубящегося дыхания парня. И то и другое вроде сносно переношу, отец курит, сколько себя помню, да и Лёлик тоже тот ещё паровоз. А вот то, что Витёк под мухой, мне не особо прельщало. Кто ж его знает, что там, на уме у этой свиты...
— Мутным? — переспросил я, досрочно понимая, с кем он мог её видеть. Поди, опять с кем-то из её компании. Вообще, я не против, сноубординг, увлечение хорошее. Спорт, как-никак. А вот мотивы доклада мне были ясны лишь смутно, хотя подозрения имелись, конечно.
— Ну, да, он какой-то... непонятный, — старательно подобрал слово Витёк. — Вроде, на нефора похож, а вроде и нет... Мутный, короче.
Ох, как же они «любят» неформалов... Вот по сей причине, Лёлик и огребал от них постоянно. Он помимо компов, ещё на одном железе помешан — на метале, то бишь, на рок-музыке в этом стиле. Да он и выглядит соответствующе: косматый, временами даже бородатый, вечно в тёмном, тяжёлых ботах, цепях. Он и меня, было, пытался пристрастить, но я не фанат такой тяжелой музыки. Я вообще к музыке равнодушен, я тишину люблю. Хотя, дружбы ради, просто за компанию, на концерты с Лёликом хожу. В целом, не так плохо, как кажется, главное обвыкнуть, и захватить с собой пару таблеток анальгина. Звука на подобных мероприятиях через край.
— Так чё насчёт Ксюхи-то? — выдернул меня из размышлений Витёк. — Мож, это... побеседовать с этим кентом, а? Ну, что б он, там шуры-муры-то с Ксюхой не закрутил, малая она ещё.
— Да всё нормально, — уверил я. — Это друзья у неё такие — спортсмены.
— А, ну если спортсмены, так порядок. Всё понял — отстал! — руки Витька взлетели вверх, он крабом отступил от меня к своим дружкам. — Спорт мы уважаем. Да, пацаны?
Те закивали, поддакивая. Витёк поправив шапку, небрежно утёр нос и ухмыльнулся, смотря на меня с прищуром.
— Пивком не угостишь, по старой-то дружбе? — намекнул он непрозрачно, пряча руки в карманы пуховика. Вполне естественно, впрочем, что подкатил этот «добрый вечер» далеко не ради соблюдения этикета. Расстегнув пару верхних пуговиц пальто, нырнул во внутренний карман и достал последнюю сотню. Протянул Витьку, и в ответ на скепсис, очевидный по физиономиям всей «тригады», пожал плечами.
— Больше нет.
— А если найду? — вкрадчиво спросил Витёк, испытующе взирая, но как-то гнусаво хохотнув, он лишь хлопнул меня по плечу, так что я аж крен поймал. — Да ладно, чё ты, нормально всё, расслабься!
— ловко подцепив протянутую сотку и прикарманив, Витёк пошатнулся на пятках. — От души, чё. Ну, бывай, Клим, не болей. Родным, привет.
— Счастливо.
Пацаны двинулись в путь, к ларьку в противоположной части двора. Загоготали о чём-то своём, да так, что окна задрожали в округе. Я свободно вдохнул холодный воздух, раскаялся в этом следом же — зубы аж свело от мороза.
«Пронесло».
Я не то чтобы трус, просто связываться с ними у меня никакого желания не было. Да и что уж там душой кривить, я всяко не атлет. Среднего роста, среднего телосложения. Не думаю, что мне есть, что противопоставить этим бугаям. Витьку, по крайней мере, точно нечего. Хотя, помнится, когда я был подростком, батя силком заставлял меня форму держать. А потом Ксюха подросла, занялась сноубордингом, и как-то отец переключил тренинг с меня на неё. Не знаю, к лучшему или нет, но так уж сложилось.
Крутя ключи в руке, я покосился в небо, задаваясь вопросом, что это за хреновина такая была? Не в полярном же круге живём, так с чего ради такие явления? Холод всё же загнал меня в подъезд, подальше от созерцания небосвода и головоломок. Первым делом задрал очки на макушку, а-то со стужи в тепло, линзы запотеют, и буду я, как крот, на ощупь до лифта тащиться.
Войдя в квартиру, утонул в аромате печёных пирожков и чего-то родного. Каждая квартира всегда пахнёт по-особому, имея индивидуальный запах, присущий только ей одной. Наша трёшка «хрущёвка» пахнёт сосновой смолой, лавандой и вкуснятиной, которую готовит мама. А вот заходя к Лёлику, с порога понимаешь, что в доме водится кот. Та ещё скотина, на самом-то деле, этот его кот: жирный гадёныш, ленивый, злопамятный и подлый, как Брут, Каин и Кассий вместе взятые. Скверная высокомерная животина.
Свет в коридоре включать не стал, с кухни его вполне достаточно проливалось в коридор, освещая светло-персиковые однотонные обои и светлый ламинат. Стянув рюкзак с плеча, взгромоздил ношу на тумбу «прихожей» и, подцепив очки с макушки, стряхнул талый снег с волос. Без очков не вижу ни зги почти, да и в очках уже не особо. Видимо, текущий счёт: минус единица к имеющимся минус трём. Минус на минус, даёт плюс — в данном случае не работает.
Разуваясь, заприметил размытый силуэт матери. Та, видать, едва заслышав поворот ключа в замочной скважине, вышла в коридор из своего кабинета. Это тот, что кухней зовётся, просто у мамы там машинка швейная стоит, вот и завелось у нас как-то — «мамин кабинет».
— Ой, а я уж думала, ты ночевать не придёшь, — с удивлением выдала родительница, вызывая у меня усмешку.
— Это ведь так на меня похоже, да, мам?
Мать немного сконфузилась, теребя цепочку на шее.
— Ну, мало ли, взрослый, вроде бы...
Снял пальто и определил на вешалку. Вернув окуляры на законное место, окинул маму коротким взглядом. Светло-зелёные, практически яблочные глаза беспокойно метались. Тонкие брови взволнованно изогнуты; она поджала маленькие губы, и вообще выглядела весьма зажатой. Впрочем, она всегда такая: маленькая, в счёт низенького роста, немного пухлая, круглолицая, нравом кроткая, ласковая, голос чересчур моложавый и тонкий для её бальзаковского возраста. Батя вечно трунит над мамой, ты, мол, застенчивая, как школьница.
— Тебе кушать разогреть? — поинтересовалась мама.
— Нет, спасибо, я сам.
— Ладно, я пойду тогда в зал, кино посмотрю.
И тут я понял, что не так. Обычно в это время в зале восседает отец и смотрит спортивный или новостной канал. В комнатах телевизор не слыхать, а вот в прихожей всегда слышно. Но не сегодня.
— А папа где?
— На работе задерживается, — вздохнула мать, пряча руки в карманы домашнего ситцевого халата. — Что-то у них там стряслось.
— Это ты так решила, или папа так сказал? — взялся я уточнить. Мама немного тряхнула головой, откидывая назад белокурые пряди, выпавшие из незамысловатой причёски.
— Не знаю, но уж больно у него голос был нервный по телефону.
Мать, как обычно, всё преувеличивает. Склонна эта женщина трагедию из всего утраивать, ровно, как и радости все утрировать. Впрочем, это, наверное, всем женщинам присуще.
— Понятно, — я бросил взгляд на закрытую белую дверь, что ведёт в комнату сестры. — Ксюха спит уже?
Мама кивнула в ответ и, проинструктировав меня, где, что в холодильнике лежит, словно я ни в жизнь сам не разберусь, отправилась в зал смотреть фильм.
Запасся чаем и пирожками с капустой и, подцепив рюкзак в прихожей, забаррикадировался в комнате.
Переодевшись в домашнее, устроился поудобнее за компьютерным столом. Поглядывая в окно, на тёмное небо, выложил нужные конспекты и учебники. Никаких всполохов, я так и не увидел, — только далёкие огоньки самолётов. Утром подъём в шесть, потому я решил не засиживаться и, умяв пару пирожков, межуясь от Интернета до учебника по истории, так и вырубился за столом.
Утром я, естественно, об этом пожалел, — спину от такой ночёвки сковало болезненным спазмом, позвоночник, словно бы, закостенел и долго не мог вернуться в свою колею сколиоза, заработанного ещё в школе, а Ксюха долго с меня ухахатывалась, увидев отпечатки клавиатуры на пол-лица. Уже и оттиск почти исчез, и мы завтракали на нашей светлой, тесной кухне, а Ксюха всё сидит гнусаво хихикает в кружку с чаем, аж прихрюкивает.
— Ксюша, ну, что ты, в самом деле, — сетовала мама, хотя сама при взгляде на меня еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. — Подумаешь, заработался человек...
В общем, ненадолго хватило маминой деликатности. Через минуты смеялись уже обе родственницы.
— Да-да — смейтесь! Ты в особенности! — многозначительно глянул я на сестру. — Вот я-то диплом защищу, а ты что же? В школу олимпийского резерва метишь?
— А может и мечу — тебе-то что? — огрызнулась малая, надкусывая свой бутер с помидором.
— Аксинья! — возмутилась мама, зыркнув на оную. — Что за тон?
Ох, как же Ксюха крамолится, когда её полным именем величают! Вот и сейчас, зенки в потолок закатила, вся такая недовольная, злится, как царица египетская на непунктуального зодчего, но молча. Мама, хоть и добрая душа, но отношения в семье велит держать уважительные.
— Я, может, реально в профессиональный спорт хочу податься.
Мы с мамой переглянулись. Та, в отличие от нас с батей, Ксюхино рвение к спорту не поддерживает. Она вроде рассчитывала, что дочка у неё будет подстать благородным девицам, и вечно Юлю в пример ставила, — это одна девушка с нашего дома, на год меня младше, тоже студентка, только на юридическом учится. Но, кажется, только потому, что отец у неё адвокат. Сама Юля, сколько помню её, к фотоискусству тяготела. До сих пор нет-нет, да видишь её с камерой в руках. То и дело что-нибудь фотографирует. И весьма удачно, у неё, в самом деле, замечательно получается, и я не потому так говорю, что она мне нравится, нет — действительно, есть талант.
Впрочем, я иллюзий не тешу. Юля не то чтобы девушка видная, просто хорошенькая, есть в ней что-то миловидное. Робкая очень, но это скорее из-за болезни: она астматик, и ей, по всей видимости, весьма неудобно от частых непредсказуемых приступов. Я лишь пару раз видел ингалятор в её руках и то случайно. Юля сразу же отлучается, чтобы принять лекарство, только бы никто не видел. Уж не знаю, почему она так этого чурается, она же не виновата, что природа так с ней обошлась.
Вот и ещё одна причина считать некоего демиурга садистом. Ну, разве можно столь прекрасное, милое создание обречь на муки такого страшного недуга? Про то, что семья у Юли неполная, нечего и говорить.
На кухню зашёл отец, скользнув за наш круглый стол, рядышком с мамой, вооружился вилкой и нацелил свой отеческий взор на Ксюху.
— Ты, валенка, коль в спорт лыжи навострила, мясо есть для начала не пробовала? А-то всё, понимаешь ли, траву свою жуёшь! — ткнул он пальцем на бутерброд, что Ксюха жевала. — Силам-то откуда взяться?
— Дело говоришь, бать, — усмехнулся я в солидарность и, отпив остывший чай, заметил странный привкус. Подозрительно уставился в кружку с тёмным напитком. Послевкусие железа было очень даже ощутимо: будто старый фонарный столб лизнул. Впрочем, давным-давно проржавевшие трубы лишали всякого удивления на сей счёт.
Наша доморощенная вегетарианка только язык мне показала, пока мама с папой отвернулись. Наглая, зараза, я, помнится, таким в её возрасте не был. Нет, я всё, конечно, понимаю, пубертат и прочие заскоки, но она в последнее время вообще лиха даёт. Наворотила ещё по осени на головушке своей светлой, да непросвещённой, дреды — это полбеды. Хотя, матушка едва в обморок не упала, когда увидала. Батя до сих пор забавляется и Ксюху, «валенкой» кличет. Проколола бровь — тоже вроде не беда. Но дерзить стала с упорством партизана в немецком плену. Причём, если дома она хоть немного за языком следит, то вне родных стен, впору рот кляпом затыкать. И дело-то вовсе не в русском могучем, дело в том, что вообще не разбирает, что и кому говорит. Вот как нарвётся на кого-нибудь, да так, что никакой Витя «Топор» не в силах будет разрулить. Словом, никакого чувства самосохранения.
Вообще, этого стоило ожидать. Характером она, конечно, в отца, нрав крутой, но такой оторвой она не была. Тут же, будто с цепи сорвалась, честное слово. Учился в их классе парень один — Андрей Громов, сын начальника военной части. В общем, история стара, как мир: с первого класса вместе, за ручку, да за одной партой. Не в курсе, как родители, а я знал наверняка, что к тринадцати годам детство там скончалось. А в начале этого лета Андрей подал документы в военное училище. Да не в нашем городе. Что тут было...
Подробностей я, конечно, не знал, то ли нет в нашем училище какого-то подразделения, в которое он стремился попасть, то ли ещё почему-то, но так или иначе, парень уехал учиться, а Ксюха днём кровь всем вокруг сворачивает, а по ночам в подушку ревёт, словно на нём свет клином сошёлся.
За завтраком, я не мог не обратить внимания на хмурость отца. Обычно весёлый, пусть и немного грубоватый в силу профессии, сегодня был на редкость угрюмым и сосредоточенным. Карие маленькие глаза — прям стратегический штаб, — столь мощное кружение мысли отражалось во взгляде. Густые брови в разлёт сведены к переносице, оттопыренные уши и короткий светлый «ёжик» то и дело подёргивались вместе с желваками на лице, — батя явно нервничал. Не в курсе, во сколько он вернулся домой, я видимо уже спал, но выглядел он неважно. Явно не выспался. Не стал его расспрашивать и поднялся из-за стола.
— Спасибо, мам, — поблагодарил я родительницу за завтрак, — до вечера.
Допивая чай в один глоток, я чуть было не поперхнулся. Словно частички металлической стружки оцарапали горло. Я закашлялся: на ладонь попали крошки явного стального цвета, как горошинки ртути.
«Ого, вот это я понимаю, крепкий чай... Что ещё за прикол?»
— Мам, ты заварник проверяла, прежде чем чай делать? — спросил я, смотря на дно пустой кружки. Осадок был красным с металлическим бисером, но на ржавые трубы, это едва ли можно спереть.
— Конечно. А что такое? — обеспокоилась мать. Я протянул ей чашку, демонстрируя частички на дне.
— Ну, значит, у нас завёлся домовой. С плохим чувством юмора, ко всему.
Покосился на Ксюху, но та наблюдала за всем с недоуменным любопытством.
— Да это же просто осадок, видишь? — отмахнулась мама и покачала головой, порицательно взирая на меня, не будь, мол, таким брюзгой. — Ничего страшного, от этого ещё никто не умирал.
Моргнув пару раз, я вновь заглянул в кружку.
— Какой осадок, мам, это... — но вмиг осёкся, ибо на дне и впрямь только мелкая чайная пыль осталась. Правда, я всё ещё ощущал металлический привкус.
Целесообразно решив оставить это без каких-либо комментариев, ушёл в ванную комнату. Не мешало бы умыться, я определённо ещё не проснулся, как следует. Открыв кран, плеснул холодной воды в лицо. А от взгляда в зеркало, вздрогнул. Из отражения на меня смотрел седовласый старик. Он что-то говорил, его рот шевелился, но я ничего не слышал, кроме шума воды. Образ рябил и словно на пиксели рассыпался.
Аж в груди ёкнуло. Я отшатнулся, с перепугу, позабыв закрутить кран. Через край умывальника, ручейками полилась красная жидкость, стремительно становясь водопадом. Рубиновая вода лилась на светлый кафель, а я просто окаменел. Но, переведя взгляд в зеркало, увидел только себя, бледного, как под клоунским гримом. А вода, текущая из крана была, как и прежде, прозрачной.
«Сдаётся мне, кто-то с гранитом науки-то переусердствовал...»
Как бы я не струхнул, это, естественно, не отворачивало меня от занятий, — умчался в универ. Но всю дорогу никак не мог выбросить эту треклятую игру воображения из головы. «Что это было? Почему? Стресс, переутомление, недосып, — как вообще мне могло такое показаться?» Едва ли я знал ответ на этот вопрос. А самым скверным для меня всегда являлось попасть в тупик, не понимая, что происходит. Я впал в мыслительную спячку. Со мной всегда так: пока понимание не снизойдёт до меня, буду шляться без прока, как сомнамбула.
Уже поднимаясь на последнюю ступень институтского крыльца, ощутил, как в глазах поплыло. Какой-то гомон в голове поднялся, всё свиристел, кружился, будто хор тихих голосов. Я, было, подумал, что сейчас грохнусь в обморок, как барышня кисейная, но нет. Многоголосие затихло, голова кружиться перестала, фокус восстановился...
Как-то инстинктивно заозирался: мимо сновали студенты, кто вверх, кто вниз по лестнице. Никто на меня особого внимания не обратил, хоть я и стоял посреди крыльца, как дурак.
Припоминая давешнюю «светопляску» в небе, прошёлся по облакам внимательным взглядом. И через дорогу, на крыше четырёхэтажного здания краеведческого музея, заприметил человека. Обычно работники, которые снег с крыш скидывают, да сосульки сбивают, в одиночку не работают. Да и человек, по-моему, просто стоял на краю, кажется, у самого парапета. Тёмное пятно на солнечном небосводе. Лучи так сильно преломились, что я больше не сумел удержать взгляд на силуэте. Когда я проморгался и вернул прищуренный взор обратно, — его и след простыл.
Можно было бы решить, что незнакомец просто отошёл дальше от края и скрылся из виду, в силу перспективы, но одна деталь меня не на шутку озадачила: заграждений, остерегающих людей, что на крыше ведутся работы, внизу нет. Впрочем, мало ли какие техники могут находиться на крыше, может антенны какие устанавливают, или ещё что. Если бы не это секундное помутнение рассудка, я бы и внимания, пожалуй, не обратил.
«Нужно больше отдыхать», — вот и всё, что приходило тогда на ум.
Я спокойно отсидел все пары, удачно сходил на консультацию к одному профессору. Вечерком встретился с Лёликом, тот час напролёт подзуживал мне про какую-то «просто охренительную» местную группу, решившую дать концерт в эти выходные. Лёлик, оказалось, урвал уже нам два билета на это действо, причём он с таким пристрастием распевал про родных душ металистов, что у меня язык не повернулся отказаться от этого похода в клуб в грядущую субботу. Хотя у меня и были иные планы.
В общем, жизнь текла своим чередом, не предвещая ничего из ряда вон выходящего. Пока в одно февральское утро не сбила меня с ног.