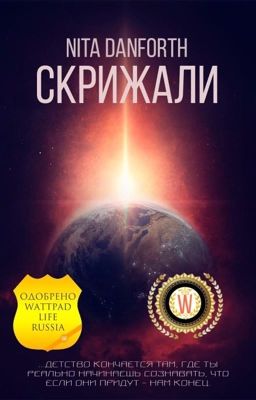1.
Языки, диалекты, наречия — сколько же вас?
Человеческая речь, подобно огромному мифическому Кракену, оплетает целый мир. Некогда, ещё по школе, будучи четырнадцатилетним сопляком, я впервые задался вопросом, какова же голова этого Кракена? И с тех самых пор я неустанно думаю о нём — о первом языке.
Существует воистину великое множество теорий происхождения всех языков, вроде бы, всё изучено вдоль и поперёк, всё перевёрнуто! Но какой был первым? — чёрт его разберёт. Исследовать эти пути, одно, что брести по сложным излучинам деревенских дорог, ведущих в никуда.
Мама моя, да и сестра тоже, думают, что я здорово сглупил. Они просто совершенно не видят смысла в моём детище. Когда я, окончив школу, поступил на факультет лингвистики, мать всерьёз обеспокоилась. И, скорее всего, усомнилась в моей умственной состоятельности. По её мнению, у меня были все шансы стать успешным политиком, дипломатом, или предпринимателем на худой конец. «С твоим умом, Климушка, мог бы и презентабельнее выбрать профессию» — вот, что она мне заявила, когда я подавал документы в институт. Мама — женщина практичная, что поделать. Хороший, оправдывающий все усилия труд — полезный и высокооплачиваемый. Всё, что не отвечает этим условиям — несерьёзно.
Малая — сестра моя, Ксюха, — шестнадцатилетняя балбеска, от воззрений матери безумно далека, она просто-напросто окончательно убедилась в том, что её старший брат — натуральный ботан. Она вечно меня в это тыкает. «Зануда, повернутый, зубрила, идиот!..» — и это лишь малый цензурный перечень моих титулов, ею присвоенных. Меня не волнует. Посмотрим ещё, какой из неё выйдет толк, и что при этом останется. У Ксюхи характер адской кошки. Реально зараза, каких поискать! Плюс пубертат, как следствие, юношеский максимализм, непрошибаемый солипсизм, сквозняк в голове, «Блинк» в плеере и прочие неприятности... Малолетняя бестолочь, словом.
Один отец всегда поддерживал мою страсть. Он постоянно покупал мне книги, которые я хотел, порой добывал такие редкие коллекционные издания, каких даже в городской библиотеке нет. Что довольно странно, при отце офицере и, как следствие, воспитании едва ли не в «уставном порядке», я, казалось, всяко не должен был увлечься наукой. Даже лет в десять, помнится, был твёрдо уверен, что стану военным, как отец. Но не сбылось. Уже и не вспомню, что именно повлияло на меня. В первую очередь, наверное, сказался особый говор селян в деревне, куда я отправлялся на лето к дедам в течение всего своего детства. Эдакий отечественный аналог американского Клондайка начала прошлого века — Ханты-Мансийский автономный округ. Там, в пригороде, есть небольшая деревенская глубинка, а народность в тех местах и по сей день сохранилась весьма занятная: манси и ханты. Естественно, меня заинтересовали рассказы старшего поколения, легенды, мифы, и вся эта своеобразная шаманская эклектика только усилила эффект. Я увлёкся, а чуть позже, когда стал четко различать грань между историей и мифологией, одних лишь рассказов и баек мне стало мало. Помню, первой серьёзной книгой, которую я взялся прочитать, был роман Арсеньева «По Уссурийскому краю». И это сейчас мне смешно, сколь сильно я в то время дуру дал — где ханты с манси, а где гольды! И ныне лишь могу вне сомнений сказать, что Горький в письме к писателю предельно точно отметил, что ему удалось объединить в себе Брэма и Фенимора Купера. Тогда я этого не понимал, но был очарован этой книгой, просто прожил её, словно вместе с автором путешествовал в горную область Сихотэ-Алиня. Словно видел эти девственные леса и чувствовал растерянность от перемен: «Там, где раньше ревел тигр, — ныне, свистит паровоз, где были редкие жилища одиноких звероловов, появились большие русские селения; туземцы отошли на север, и количество зверя в тайге сильно уменьшилось».
Зацепило это столь сильно, восхитило, буквально шарахнуло, как шаровой молнией, поглотило — и следом в моих руках оказалось второе издание романа «Дерсу Узала», — вот где всё началось по-настоящему, ведь вся серия романа изобилует гольдским, ныне уже нанайским, языком.
Сами мы, всей семьёй живём южнее таёжной красы Уральского округа, близ военной части, почти на отшибе города. Отцу как-то раз предлагали перевестись в другой регион, но мама настояла, что переезжать мы ни в коем случае не станем. Мол, все родственники здесь, все друзья, куда и зачем мы поедем? А пара другая тысяч надбавки к зарплате погоды не сделают. Вообще, не сказал бы, что мы живём на широкую ногу. Мама у нас швея на фабрике, порой может брать подработку на дом. От Ксюхи, понятное дело, пользы не жди ещё лет пять. А я, максимум, комп могу кому-нибудь починить за скромную плату. Впрочем, мне хватает, всё из родителей на личные расходы не тянуть. Вот такой вот простецкий быт, как сибариты, мы навряд ли когда заживём, зато семья у нас дружная. Ну, почти.
На носу диплом — четвёртый курс как-никак. Вообще, времени ещё навалом, но это лишь видимость. Время коварно. Стоит расслабиться и пустить всё на самотёк, как оно пролетит, ты и оглянуться не успеешь и не заметишь даже, как скоропалительно тобой овладеет чистейший цейтнот. Защита через пять месяцев, казалось бы, есть, где развернуться. Это вовсе не так. Это очень мало, настолько мизерная дистанция, устланная песчинками, что ощущая их лёгкий скрежет под подошвой, чувствуешь так же, как дни наступают на пятки. Каких-то без малого полгода, а там, глядишь, и аспирантура не за горами.
Двадцать два года... Мне двадцать два года, а я в пятничный вечер заместо времяпрепровождения в компании какой-нибудь приятной девушки перерывал номенклатуру в пыльной университетской библиотеке. Не сказать, что это особо меня расстраивало, любимым делом, всё-таки, занимался. А то, что девушки нет, может, оно и к лучшему? Друг мой — Лёня, или просто Лёлик, говорит, что я ничего особо и не теряю. Чудила он тот ещё, мы потому, наверное, со школьной скамьи, как Поллукс и Кастор, — друзья не разлей вода. Хоть мы с ним и разные в корне, у Лёлика и характер другой совсем и увлечения: кроме компов его, вообще, мало что интересует. Если я — червь книжный, то Лёлик — цифровой. От него-то я и нахватался навыкам укрощения компьютерной техники.
В общем, Лёлик глубоко убеждён, что от баб одни беды. Он не женоненавистник, не сексист, нет. Просто на такого рохлю и раздолбая ни одна нормальная девушка не позарится. Впрочем, и ненормальные не особо-то зарятся. Вот он и бесится.
Я не далеко от него ушёл в этом вопросе. Вообще, хотел бы я посмотреть на ту, что будет терпеть такого затворника. Чтоб лицезреть подобное, придётся открыть параллельную вселенную. А лучше не надо. Не могу сказать, что я сплю и вижу себя примерным семьянином, со скачущими вокруг детишками. Вообще не представляю. А именно к такому раскладу всё, как правило, и стремится. Каждая вторая хоть мало-мало заинтересованная в тебе особь противоположного пола в красках представляет себе вашу свадьбу уже на первом свидании. А «каждая первая» — занесена в красную книгу. И такие, как я, их не интересуют, от слова, совсем. Ксюха, может, и язва, да только в её словах по мою душу сарказм отсутствует напрочь. В самом деле, что с меня взять? Если я не на парах, то с головой в очередном опусе. Вот и в тот роковой вечер в библиотеке я, склонившись в три погибели так, что аж носом утыкался в строчки, корпел с лупой над текстом манускриптов в одном из собраний.
Глаза уже порядком устали от напряжения, строчки немного плыли перед взором, как сквозь пламя костра; мозг закипал, пытаясь перевести германо-скандинавские каракули на русский. Меня, поди, и не видать было за стопками книг на столе.
Неизвестно когда наступила кромешная тьма. И расстелился круком белый, плотный туман. Я рассекал его, как лезвие - масло. И спустя несколько шагов, почувствовал как зыбнут ноги. Зыбнут в грунте, хотя вообще-то я шёл по асфальту, но он проваливался под подошвой. Видимость оставляла желать лучшего сквозь туманную шаль, потому присев, прикоснулся к асфальту и утонул: рука погрузилась в зернистую, как рис, субстанцию. Я зачерпнул целую горсть чёрного, как шлак, крупного, эластичного песка. Вроде бы всё тот же асфальт, но чёрт возьми, что-то с ним было... не так? Не просто не так, что-то крайне хреново было с этим асфальтом. Он рассыпался. Распадался. Прямо в моих руках! Прям под ногами!
«Это своего рода... распад» — точно эхо пронеслось над ухом. И я вздрогнул, как от импульса. Какой знакомый голос...
Высыпав эту дрянь из руки, озираясь, попятился. Паника - я чувствовал это... Что меня так чертовски пугает?
— Стойте! — окликнул я, осев, споткнувшись, на зыбучий асфальт, и сбросил какие-то бумаги на чёрный бисер.
— Ну, что ещё? – послышалось из-за проволоки тумана.
— Ты чё там мутишь опять, чудила?
Поднялся недовольный гомон, давящий мне на мозги и до одури мешающий сосредоточиться.
— Так! А ну-ка успокоились все к чёртовой матери! — рявкнул я, не выдержав, отчего всё разом стихло. — Мне надо подумать. Если у кого-то проблемы, можете отвалить на хрен!
— Клим, закругляйся, — прорвалось сквозь сон, и я вскочил как ошпаренный. И уверен, вскрикнул.
— Клим? — негромко окликнул меня Сан Саныч — университетский сторож. — Время одиннадцать уже, я сейчас обход сделаю и на боковую.
Будучи в полном хаосе, прерывисто дыша, я поправил сбежавшие на лоб очки, и растерянно моргал на раскрытые книги на столе. Затем взглянул на полноватого мужчину в дверном проёме. Широкое, увядающее в силу возраста, лицо покрывали ощутимые оспенные рытвины, заработанные ещё в юности. Тёмные волосы потеряли яркость под натиском серебра, инеем покрывающим голову мужчины. Водянистые серые глаза, поражённые катарактой, без какого-либо энтузиазма осматривали библиотеку.
Что всё-таки с нами делает время...
— Пять минут ещё, — ответил я, нервно вороша книги, над которыми я нечаянно задремал. Сон меня так взбаламутил, что аж дико было: сердце выпрыгивало из груди и руки тряслись. Никак не мог успокоиться. Приснится же...
— Ну, давай, — махнул Саныч рукой, выходя из библиотеки. — Пойду пока на обход тогда... — его осипший голос затерялся в пустынном коридоре.
Вообще, спасибо ему, конечно. Помнится, курсе на втором, была тётка на вахте. Та, вот, не разрешала в библиотеке сидеть допоздна. Семь часов вечера — будьте добры покинуть здание. А Саныч — мужик славный, халатный малость, но в этом есть свои плюсы. Да и не халатность это. Не совсем.
Это время. Время удивительное измерение. Так до конца и непонятое и вряд ли будет. Ведь никому даже неизвестно, есть ли у него начало, а значит не известно и настанет ли конец. Появилось ли оно наравне с пространством в момент громадного выброса энергии материи, или же существовало задолго до взрыва? Или не было никакого взрыва? Можно ли заглянуть вперёд или вернуться назад, и что если прошлое, настоящее и будущее протекают одновременно? Иллюзия, подобная слайдам, — и каждый недвижимый миг истории, следуя друг за другом, словно двадцать четыре кадра монтируют плёнку реальности. И если время всё-таки существует, то дискретно ли оно, как движение секундной стрелки, своим началом означающее конец предыдущего, или же тянется беспрерывно, подобно качанию маятника из ниоткуда в никуда? Возможно, каждый рано или поздно задумывался над этим, может даже несколько иначе. В Ветхом завете сказано: «И был свет», затем Господь создал небо и землю, и звёзды, и нас с вами, но возникает вопрос: откуда взялся сам создатель? Ведь это говорит о том, что время существовало до начала времён. Всё это, скорее, из разряда фундаментальных вопросов относительно физики и философии. С психологической же точки зрения, время создаёт дичайший по своей мощи диссонанс. Вот что оно с нами делает: крадёт энтузиазм, натравливая мерибо на либидо, и страсть к разрушению кормится болезнями, поражениями, увяданием, крепчает, медленно пожирая любое стремление к жизни. Год за годом. Апатичное заражение. Но в человеческой сущности, в самом его сердце, первобытном, очень древнем, заложен страх и трепет перед смертью. Перед неизвестностью. Потому, радуясь ли, страдая ли, мы до самого исхода, жадно впиваясь в каждый глоток кислорода, влачимся в оковах неподдельного экзистенциального ужаса. И как бы кто не храбрился, как бы не хладел к неминуемой участи, как не смирялся бы, не тщился освободиться!.. увидеть улыбку на лице умирающего — шанс один на миллион. Человек боится смерти и всё же лелеет мысли о ней. Наверняка, хоть раз, но кто-то слышал, как старики, хватаясь за поясницу или сердце, ковыляя, или вовсе не в силах подняться, бормочут под нос, мол, поскорей бы уже, что ли, помереть?.. Но желать чего-либо, в принципе, вовсе не избавляет от страха перед заветным. Иные же и вовсе ждут от смерти спасения, ожидание неотвратимого коротая в иллюзиях, в надеждах и упованиях, при всём в раболепном страхе, в течение всего сознательного существования стараются остановить некое «падение вниз», может, и, не задумываясь никогда, что надежда есть лишь там, где теплится жизнь.
Моё внимание привлёк отдалённый шорох за спиной. Обернувшись, прошёлся взглядом по рядам стальных этажерок, битком забитых книгами, но никого не обнаружил. Дальняя стена, забытая светом ламп, сиротливо проглядывая в проходе, купалась в таинственной тьме. В этом было нечто завораживающее и устрашающее одновременно. Не припомню, чтобы боялся темноты, но на то мгновение густые потёмки в дальнем конце библиотеки вызывали лёгкое чувство тревоги.
Вздохнув, даже не осознавая до этого, что задержал дыхание, я вновь уткнулся в книгу. Переводя очередной отрывок, совершенно не понял сам себя. «Айдэ...» — чужое для древнего северного языка, слово, вклинивалось в строку и напрочь убивало весь смысл. Перечитал ещё раз, но выходила полная ахинея, не имеющая никакого отношения к тексту. Кажется, я слишком устал. Глаза и впрямь уже горели и слезились от строк и пыли, с лихвой подтверждая, что пора бы сворачиваться.
Отложил лупу и, сделав пару заметок в блокноте, задрал окуляры в чёрной оправе на макушку и потёр утомлённые глаза.
Свет от настольной лампы слегка дрогнул, как если бы сквозняк колыхнул огниво свечи. Лампочки в библиотеке явно давненько не заменяли. Освещение было тусклым, молочного цвета плафоны под потолком скопили море пыли, отчего казалось, будто большая тень висит над головой. Светло-зелёные стены, покрытые дешёвыми обоями под покраску, посерели, словно седым пеплом покрылись. Потёртый, драный линолеум цвета светлого ореха, местами небрежно залатанный кусками более тёмной расцветки, но, вроде как, не особо заметно, никто не спотыкается, да и нехай с ним. Думаю, именно этим успокаивался ректор, сквозь пальцы смотря на деятельность вороватого завхоза. Вроде как: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, и ты, будь добр, помалкивай про чёрную бухгалтерию и печатный конвейер зачётов по блату.
Три ряда столов из прессовки, выданного за светлое дерево; стулья, сидения которых обиты грубой тёмно-зелёной, как бильярдное сукно, тканью. Запах полиграфной краски смешался с чем-то ещё, непередаваемым, похожим то ли на ладан, то ли на какой-то душистый травяной сбор.
И тишина. Мудрая, мирная тишина, воспевающая гимны Афине. Идиллия! Тишина вообще особенно драгоценна в повседневной сутолоке. В мешанине тел и звуков все бы давно с ума посходили, не будь у каждого своего угла — такой своеобразный схрон, коробка с покоем. Она не материальна, она в мыслях, и как только звуки становятся тише, теряют значимость, становятся фоном, а затем и вовсе упраздняются, значит, ты наедине с самим собой, только ты и твои мысли в абстрактной коробке. Это важно. Есть даже старинный индейский ритуал Нахуа. Прежде чем начинать серьёзное и трудное дело, индеец со всей серьезностью спрашивает себя: «Является ли данное занятие выражением глубинных устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу именно этого? Буду ли рад, совершая задуманное? Испытаю ли счастье, воплотив замысел?» И вообще любые решения следует принимать в тишине и покое. Всего мгновение тишины, — и вопрос, обращённый к себе, может отвести массы неприятностей. Если б только каждый проводил подобный ритуал, уверен, проблем было бы меньше. В разы. Но повсеместная спешка поджигает землю под ногами.
Сложив все книги на столе в одну стопку, направился расставлять их по местам. Запылённые стальные этажерки приняли в свои чертоги толстые сборники скандинавских легенд и мифов наряду с историческими летописями. Конечно же, в этих сборниках больше воды, чем реальных документов, но выбирать особо не приходилось.
Всегда больше любил историю, в сравнении с вереницей мифов, история казалась мне безопасной. Факты, куда безопаснее домыслов.
Расправившись с литературой, ощутил странный магнетизм, аж волосы зашевелились. Не успел я мысленно поругаться на шерстяной свитер, словно генератор вечно вырабатывающий статическое электричество, как меня несколько неестественно повело, будто подпихнул кто честное слово, и я зацепил локтем стеллаж. С верхней полки повалились книги. Здоровый том едва меня не зашиб, пролетев в мизере от головы. Пережив сход бумажной лавины, вжимая голову в плечи, бросил взгляд на тёмный фолиант в кожаном переплёте.
Библия.
То есть, это так нынче еретиков карают — Священным Писанием по шапке?
Подобрав все книги, расставил их, надолго задержав в руках том Библии, явственно чувствуя слабый ток, пробегающий по руке. Открыл книгу на заложенной тонкой красной ленточкой странице.
«И после сего видел я четырех Ангелов,
Стоящих на четырех углах земли,
Держащих четыре ветра земли,
Чтобы не дул ветер ни на землю,
Ни на море, ни на какое дерево».
Откровение Иоанна, глава седьмая, между прочим.
Слог хорош — не поспоришь.
Хотел было вернуть еврейскую сказку на полку, да места ей не обнаружил. Глянул на табличку реестра: «Итальянская средневековая литература». Мельком приметил творение Алигьери, думая, какой же нерадивый студент Библию к средневековой поэзии приравнял. Впрочем, было в этом нечто забавное. Никто походу и не воспринимает эту книгу всерьёз, а ведь надо отдать ей должное, быль это или нет, но в её переплёте сквозь тысячелетия дошли до наших дней труды древних авторов.
В периферии зрения мелькнула искорка, словно блик скользнул по линзам, но осмотревшись, я только очки машинально поправил. Здесь никого не было, но что-то вроде эффекта присутствия не давало мне покоя — чувство, что я вовсе не один.
Отдёрнув себя от абсурдных мыслей, унёс старушку древнюю, в обличии печати 1998-го года, на полку религиозной литературы и засобирался домой. Убрал тетради в чёрный холщовый рюкзак, шагнул за порог библиотеки в прохладный коридор и уловил шум со второго этажа. Крикнул Сан Санычу в пустоту лестничного пролёта:
— Сан Саныч? Я ушёл! Спокойной ночи!
— А? Чего? Ага, давай, давай... — донеслось эхом в ответ. Но из смежного коридора почему-то. Подозрительно покосился на лестницу, — но только тишина в ответ, и в свете фонарей, за огромным окном в пролёте, кружились крохотные снежинки. Причудилось, видимо.