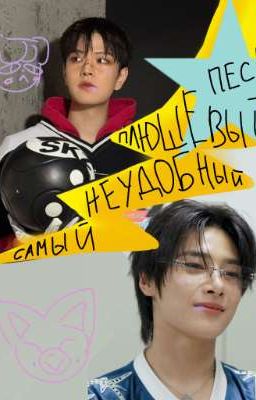Глава 10: Пять дней тишины
Что-то сломалось в Чонине. Это не было похоже на его привычную, холодную ярость, которую он обращал на врагов. Это был черный, едкий смрад, поднимающийся изнутри. Проблемы с учебой, давлением из дома, сорванные сроки — все накопилось и требовало выхода. А самым близким, самым удобным объектом оказался он.
Сынмин, конечно, не виноват. Он просто был. Был своим обычным «неуклюжим милашкой». В тот вечер он, пытаясь помочь, перепутал важные документы Чонина с своими черновиками. Это была последняя капля.
— Хватит! — голос Чонина прорвался не криком, а каким-то сдавленным, ядовитым шипением. Он встал, и его лицо исказила незнакомая Сынмину гримаса. — Ты вообще думать головой умеешь? Или она у тебя только для того, чтобы об стены биться? Хожу тут, как по минному полю, из-за твоего вечного беспорядка! Надоел!
Сынмин замер с папкой в руках, его лицо вытянулось от шока. Он видел раздражение Чонина, усталость, но никогда — такую чистую, беспримесную ненависть.
— Я... я просто хотел помочь, — прошептал он, и его голос дрогнул.
— Не помогай! — отрезал Чонин. — Самая большая помощь от тебя — это сидеть тихо в углу и не трогать ничего! Ты вообще представляешь, каково это — жить с постоянной катастрофой?
Слова, как ножи, вонзались в самое больное. В его неуклюжесть. В его сущность. Сынмин отшатнулся, его глаза наполнились слезами. Он больше не сказал ни слова. Просто развернулся и бросился к двери.
И тут же, как по злой иронии, его нога зацепилась за коврик. Он с грохотом упал, ударившись коленом о пол. Раньше Чонин бы уже подскочил, вздохнул, помог. Сейчас он просто стоял и смотрел, его грудь вздымалась от гнева.
Сынмин поднялся, не глядя на него, и выбежал из комнаты. Дверь захлопнулась с таким звуком, который казался точкой в их истории.
Первый час Чонин еще кипел. Второй — ярость начала стихать, сменяясь леденящим осознанием. Он знал. Он знал, что у Сынмина не было никого. Ни денег, ни друзей, ни семьи, к которой можно было бы пойти. Только эта комната. И он.
Третий час прошел в полной тишине. Чонин не двигался с места, уставившись в стену. Он представил себе Сынмина на улице. С разбитым коленом. С разбитым сердцем.
«Вернется, — пытался убедить он себя. — Остынет и вернется».
Но Сынмин не вернулся. Ни к ночи, ни на следующее утро.
Чонин позвонил ему. Абонент недоступен. Он написал сообщение. Оно осталось без ответа.
Первый день прошел в попытках убедить себя, что все в порядке. Второй — в растущей панике. Он обошел все ближайшие кафе, парки, библиотеку. Нигде.
На третий день тишина в комнате стала невыносимой. Она давила на уши, на разум. Он видел немую укоризну в глазах плюшевого пса, все еще сидевшего на столе Сынмина. Он не мыл посуду, не убирал. Комната медпенно погружалась в хаос, отражая состояние его души.
На четвертый день Чонин не спал. Он сидел на кровати и смотрел на дверь. Каждый шорох в коридоре заставлял его вздрагивать. Он вспоминал каждое свое слово. «Надоел». «Катастрофа». Он представлял, как Сынмин, с его ранимой душой, слушал это. И ему становилось физически плошно.
Пятый день начался с того, что Чонин в отчаянии швырнул свою кружку об стену. Она разбилась с оглушительным звонком, разбрызгивая осколки. Он стоял, тяжело дыша, глядя на осколки. Это был он. Он был тем, кто все разбил.
А потом дверь тихо открылась.
В проеме стоял Сынмин. Бледный, с огромными синяками под глазами, в мятой, грязной одежде. Он пах дождем и тоской. Его взгляд был пустым, как в ту ночь после отца.
Он не смотрел на Чонина. Он просто прошел к своей кровати и упал на нее, повернувшись к стене.
Чонин застыл, не в силах вымолвить слово. Гора извинений, что копилась в нем пять дней, застряла в горле комом. Он смотрел на эту сгорбленную спину и понимал — его слова ранили куда глубже, чем любое падение. Он выгнал его. И он вернулся, потому что идти было больше некуда.
Тихо, как преступник, Чонин подошел к его кровати. Он хотел коснуться его плеча, но рука замерла в воздухе. Он не имел права.
— Сынмин... — его голос сорвался, звучал хрипло и несмело.
Тот не ответил. Только плечи чуть вздрогнули.
Чонин отступил. Он не мог исправить все одним словом. Но он должен был начать. Он поднял осколки разбитой кружки, вытер пол. Потом сел на пол у своей кровати, спиной к ней, и уставился в пространство, чувствуя себя самым большим подонком на свете.
Его щенок сломался. И на этот раз виновником был он сам. И как теперь все починить — он не знал.
Тишина в комнате 407 длилась еще сутки. Сынмин не вставал, не поворачивался, не издавал ни звука. Чонин, сидевший на полу у своей кровати, прошел все круги ада. Он слышал, как тотчас после возвращения Сынмина начался тихий, надрывный кашель, но не решался подойти.
А потом кашель стих, сменившись тяжелым, хриплым дыханием.
На вторую ночь Чонин не выдержал. Он подкрался к кровати Сынмина в темноте и замер. Даже в слабом свете луны, падающем из окна, было видно, как тот бредит. Его губы беззвучно шептали что-то, лоб покрыла испарина, а все тело била мелкая, беспокойная дрожь.
«Не просто простуда», — с ледяной ясностью осознал Чонин.
Он осторожно, боясь разбудить и испугать, прикоснулся тыльной стороной ладони ко лбу Сынмина. Кожа была сухой и обжигающе горячей. Лихорадка.
Паника, острая и безжалостная, сжала его горло. Он тряхнул Сынмина за плечо.
—Эй. Проснись.
Сынмин лишь бессвязно застонал и повернулся, его глаза блестели в полумраке лихорадочным, невидящим блеском. Он не узнавал Чонина.
В тот миг все обиды, вся злость и чувство вины разбились в прах, оставив лишь голый, животный ужас. Его щенок умирал. И он, Чонин, позволил этому случиться. Он выгнал его под дождь, в холод, зная, что тому некуда идти.
Он действовал на автомате. Быстро набрал номер скорой, голосом, не терпящим возражений, выдав адрес и симптомы. Потом намочил полотенце и начал обтирать Сынмину лицо, шею, руки, пытаясь сбить жар. Его движения были резкими, но прикосновения — удивительно нежными.
— Держись, — хрипло шептал он, не зная, слышит ли его Сынмин. — Держись, ты слышишь меня? Я не позволю... Я не...
Он не мог договорить. Комок в горле мешал дышать.
Сынмин вдруг открыл глаза. Взгляд был мутным, но на секунду в нем мелькнуло осознание.
—Холодно... — прошептал он, и зубы его застучали. — Так холодно...
Чонин, не раздумывая, сбросил с себя одеяло и прижался к нему, обвив его своими руками, пытаясь согреть дрожащее тело своим теплом. Он прижимал его к себе, как самое дорогое, что у него было, и шептал ему в волосы бессвязные слова — извинения, мольбы, угрозы в адрес болезни.
— Прости, — рыдал он, наконец сорвавшись, пряча лицо в его горячей шее. — Прости, я не думал... я не хотел... Ты мой, только мой, черт возьми, просто не уходи, пожалуйста...
Приехавшие врачи застали эту картину: Чонин, бледный как смерть, не отпускающий Сынмина из объятий, с лицом, мокрым от слез, которых он не мог сдержать.
В больнице, пока Сынмина увозили на каталке, Чонин схватил врача за рукав.
—Спасите его, — его голос был хриплым от сдержанных рыданий. — Что угодно. Любые деньги. Просто спасите его.
Ему пришлось отпустить руку, и он остался стоять в пустом, ярком коридоре, чувствуя, как мир вокруг рушится окончательно. Он снова был тем мальчишкой, который ничего не может защитить. Только на этот раз врагом был он сам.
Он упал на пластиковый стул, уткнувшись лицом в ладони. Его плечи тряслись. Он плакал. Тихо, безнадежно, как плачут те, кто понимает, что может потерять все, что было по-настоящему важно, по своей же глупой, непростительной вине.
Его щенок был где-то там, за дверями реанимации, и боролся. А он мог только ждать и надеяться, что у него будет шанс все исправить. Один-единственный шанс.