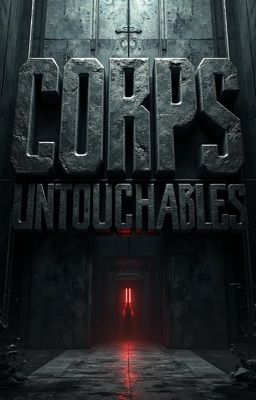Среди своих
Смена всё не приходила. Конни стоял у стены уже второй час, между Общим залом и блоком камер, словно часть этого бетонного коридора. Внизу, на другом этаже, с глухим эхом хлопнула дверь — звук ушёл в бетон, отзываясь тяжёлым ударом колокола, и на мгновение всё вокруг замерло.
Он прислонился плечом к холодной стене, ощущая, как ткань формы прилипает к спине, душно и сперто, будто воздух сам сопротивлялся дыханию. Сквозь бронированное стекло мелькали силуэты: короткие вспышки движения, редкие голоса, отражённый свет фонарей на мокром полу. Всё было знакомо и чуждо одновременно — корпус жил своей жизнью, не замечая его присутствия.
Ежемесячно сюда переводили дюжину заключённых — ровно столько, чтобы держать всех под контролем и сохранить тайну особого корпуса от посторонних глаз. На каждого приходился свой надзиратель: один к одному, никакого шума, никаких рисков. Любая большая партия — лишний гул шагов, лишнее внимание, лишние шансы для непредвиденных конфликтов.
Агенты под прикрытием появлялись строго по разным временным окнам. Одновременное появление двух и более считалось слишком рискованным, даже если каждый обладал независимым доступом.
Конни был здесь меньше недели, постепенно впитывая ритм корпуса, наблюдая за движением заключённых и за внутренней организацией системы. Но его цель была совсем другая. Ему нужно было быть изнутри — среди надзирателей, сотрудников, частью механизма, который казался железобетонным и непроницаемым. Потому что никто не знал, кому Тесса могла передать информацию, и вполне возможно, что целью окажется кто-то внутри системы.
Шум снизу усиливался, движение становилось всё отчётливее, когда к его посту наконец подошёл новый надзиратель. Правила были железными: смена не могла покинуть пост, пока не придёт замена.
Фигура остановилась у противоположной стены, короткий кивок — знак того, что он готов к переводу. Конни следил за каждым движением, не делая ни шага, пока не убедится, что протокол выполнен.
Когда замена заняла позицию, система, как тяжёлая рука, позволила Конни сдвинуться в сторону, направляясь к следующей комнате, где его ждала новая локация.
Он шагнул в большую комнату и замер — взгляд сразу наткнулся на ужасную картину. Двое громил, массивных и бесстрашных, держали третьего заключённого. Его голова безжизненно свисала, словно тряпка, глаза закрыты, рот чуть приоткрыт. Кровь стекала по вискам и шее, оставляя тёмные следы на белой форме. Если бы его не удерживали, он бы рухнул на пол.
Тела дрожали от напряжения, а воздух вокруг был густым, тяжёлым, пропитанным потом, адреналином и холодной угрозой. Звуки — слабый стук шагов по плитке, приглушённый скрежет металла — казались слишком резкими на фоне почти полной тишины.
Конни почувствовал, как мурашки побежали по спине. Это зрелище было не просто жестоким — оно вызывало инстинктивный ужас.
Он сделал шаг, пытаясь остановить происходящее. Мораль кричала действовать, нутро подталкивало к вмешательству. Но прежде чем он успел что-либо сделать, тяжёлая рука встала на его груди, мгновенно останавливая движение.
— Ты не того держишь, — сказал он, едва сдерживая раздражение.
Надзиратель лишь слегка улыбнулся, будто ему было забавно наблюдать за новичком:
— Успокойся.
— Давай отойдём, — тихо добавил другой. Его рука мягко, но твёрдо коснулась локтя Конни, и тот шаг за шагом отступал, направляясь к посту второго надзирателя, оставляя за собой глухое эхо той сцены.
Конни остался стоять, плечи напряжены, дыхание ровное, но внутренний ритм колотился слишком громко. Один из надзирателей с той странной усмешкой медленно шагнул рядом, а второй аккуратно оттянул взгляд на происходящее, будто давал понять: теперь слушай, новенький.
— Вы же всё видели, — выдохнул он, голос сжатый, холодный, с оттенком возмущения. — Почему не вмешиваетесь? Вы здесь, чтобы что... быть элементами декора?
Надзиратели на мгновение не пошевелились. Тишина висела тяжёлой, будто сама комната ждала реакции. Потом первый, с той самой усмешкой, спокойно произнёс:
— Не мешай тому, что работает само по себе.
Второй едва улыбнулся, но взгляд оставался острым:
— Правила здесь другие. То, что тебе кажется несправедливым, для нас — часть рабочего процесса.
Конни почувствовал, как напряжение сдавливает грудь. Любая попытка действовать напрямую — не просто риск, а нарушение скрытых законов этого места.
— В ваших обязанностях входит наблюдать, как двое до смерти избивают одного? — голос с трудом удерживал раздражение. — Даже отбросив формы, что в вас мужского после этого?
Надзиратели не дрогнули. Первый с усмешкой ответил:
— Мужское? Оно здесь не в форме, новенький. Оно в том, кто остаётся живым.
Второй пожал плечами, взгляд холодный, почти шутливый:
— Думаешь, это жестоко? Это правило выживания. Для слабого — конец, для сильного — жизнь.
— Но правила... — начал было Конни, но первый лишь усмехнулся:
— Думаешь, здесь есть правила, которые работают одинаково для всех?
Конни вскинул бровь, готовый возразить, но дал им продолжать.
— Знаешь, кто его отец? — произнёс первый почти шёпотом, будто делясь секретом, с лёгким холодным хохотом. — Так вот... он в сто раз хуже.
— Но он здесь, — выдохнул Конни, не убирая напряжения из глаз. — И если он что-то замышляет, никто не сможет...
— Ха! — тихо рассмеялся надзиратель, почти издевательски. — Ты правда думаешь, что хоть что-то произойдёт, потому что он в этих стенах? Он пришёл по собственной воле — и уйдёт, когда захочет. Ни законы, ни наши порядки, ни железо стен не остановят его.
Вторая рука мягко коснулась плеча Конни, возвращая его к реальности.
— Думаешь, его присутствие что-то изменит? — добавил второй почти шепотом. — Его клан всё ещё на страже — так же, как и мы.
Конни чувствовал, как каждый факт давит на него, снимая остатки иллюзий. Железная система, строгие правила, власть над заключёнными — ничто из этого не имело значения перед тем, кто мог ходить здесь по желанию.
Тишина была почти осязаемой, как гулкий стук сердца. Конни медленно перевёл взгляд с надзирателей на пострадавшего заключённого, затем обратно на руку, удерживавшую его ранее. Он понял: иерархия здесь не знает жалости, правила — условны, а сила — выше всего.
Придётся переступить через собственные принципы — и сама мысль об этом давила сильнее, чем бетонные стены вокруг. Ему предстояло стать тем, кем никогда не хотел быть — частью системы, её мимикой, её голосом, чтобы добраться до сути. Не подвиг, не выбор — просто необходимость. Временное предательство ради большего дела. И уже сейчас тяжесть этой мысли давила так, будто корпус сам испытывал его на прочность.