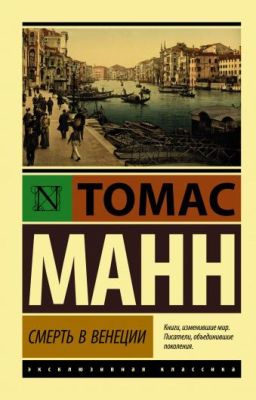Глава 4
День за днем теперь нагой бог с жаркими ланитами мчал свою огненную колесницу по пространствам небес, и золотистые кудри его развевались по ветру. Беловато-шелковистый блеск покрывал поверхность лениво плескавшихся волн. Песок был раскаленный. Под серебристой лазурью эфира перед купальными будками были натянуты тенты, и на резко ограниченных теневых местах под ними все проводили утренние часы. Но прекрасны были и вечера, когда растительность парка издавала бальзамический аромат, звезды на небе сплетались в свои бесконечные хороводы и еле доносился шепот окутанной мраком воды. Такой вечер таил в себе радостную надежду на новый яркий, солнечный день, на досуг и свободу, на бесчисленные, тесно сплетающиеся друг с другом возможности счастливого случая.
Ашенбах, которого удержала здесь столь счастливая "неудача", был весьма далек от мысли после получения багажа вновь трогаться с места.
Два дня ему пришлось потерпеть, и к обеду в залу он являлся по необходимости в дорожном костюме. Но потом, когда пропавшие вещи были снова водворены в его комнате, он распаковал чемодан, разложил все по шкафам и расположился на более или менее продолжительное время, довольный тем, что опять может проводить утренние часы на пляже в своем легком шелковом костюме и появляться вечером за обедом в приличном виде.
Приятный, ровный, размеренный темп этой жизни пленил его, целиком овладел его существом. И, действительно, какое дивное сочетание: прелести благоустроенного курорта на южном берегу с близостью чудесного, несравненного города. Ашенбах не любил праздности. Всякий раз как случалось ему отдыхать, устраивать себе всякого рода праздники, его всегда – в особенности в юные годы – с каким-то неотразимым томлением влекло вновь к работе, к священно-трезвому служению будней. И только это местечко чаровало его, гнало все привычные запросы и желания и наполняло душу его счастливым покоем. Часто утром, под тентом своей будки на пляже, устремив взгляд на лазурь южного моря, или теплою, мягкою ночью, откинувшись на подушки гондолы, которая под усеянным звездами небом везла его домой на Лидо с площади св. Марка, где он иногда проводил вечера, – а сзади там, где-то оставляла за собой и пестрые огоньки и нежные звуки певучих серенад, – он вспомнил свою усадьбу в горах, где он работал всегда летние месяцы, где тучи опускаются чуть не до деревьев, где страшные грозы по ночам ярко освещают все уголки огромного дома и где в вершинах высоких сосен гнездятся черные вороны, которых он заботливо кормит. В эти минуты казалось ему, будто он где-то сейчас на елисейских полях, на границе земли, где удел человека – легкая, свободная жизнь, где нет ни зимы, ни снегов, ни гроз, ни бушующих ливней, – где всегда нежно свежащее дыхание моря и где в сладостной лени текут прекрасные дни, спокойные, беззаботные, тихие, отданные целиком солнцу и его ликующим играм.
Часто, почти постоянно видел Ашенбах мальчика Тадцио. Ограниченное пространство пляжа и размеренный режим курортной жизни способствовали тому, что юный красавец почти целыми днями всего лишь с небольшими перерывами был подле него. Он видел и встречал его всюду; внизу в отеле, на освежающих прогулках в Венецию и обратно, часто даже в самом городе, в тесноте его улиц, а иногда и так мимоходом, когда того хотел случай. Но с особенно счастливой регулярностью давали ему возможность благоговейно взирать на нежную красоту мальчика утренние часы на пляже. И именно это постоянство счастливой случайности, эта неизменная благосклонность судьбы и наполняла его душу радостью и довольством жизнью, – придавала столь великую ценность его пребыванию здесь и сплетала день за днем в непрерывную цепь светлого праздника.
Он вставал рано, как обычно в периоды усиленной, спешной работы, и первым почти появлялся на пляже, когда солнце не палило еще своими золотыми лучами, а море в беловатом сиянии спало еще тихим утренним сном. Он радушно здоровался со сторожем, встречал улыбкой босого старика, который смотрел за его будкой, натягивал желтый тент и вытаскивал наружу удобное кресло. И три, четыре часа затем принадлежали ему, – а солнце меж тем поднималось все выше и выше, приобретая страшную власть над вселенной, – море голубело сперва и синело яркой лазурью, – и Тадцио был тут же вблизи, – и он мог смотреть на него...
Он видел, как он подходил слева, по самому краю воды, видел его сзади выходящим из будки или же замечал неожиданно и не без приятного изумления, что пропустил его появление и что он уже тут, что уже снова в своем синем с белым купальном костюме, в который теперь всегда он был одет на пляже, он начал свою обычную жизнь на солнце, в песке, ту мило-ничтожную, праздно-пеструю жизнь, которая была и игрой и покоем, беготней, лежанием на песке, копанием в земле, плаванием и забавами, -- окруженный попечением и неусыпным надзором женщин в будке, которые красиво и звучно окликивали его: "Тадцио! Тадцио!" и к которым он бежал с радостным видом рассказать, что он видел и делал сегодня, показать, что нашел и поймал: ракушек, морских коньков, водоросли и странных причудливых раковин. Ашенбах не понимал ни слова из того, что он говорил, но пусть то были самые обыкновенные, самые ничтожные вещи, – все равно для него было наслаждением его слушать. Непонятность речи мальчика превращала ее для него в музыку, – могучее солнце залило его своим растительным блеском, а фоном его прекрасного облика неизменно служила величественная ширь лазурного моря.
И скоро Ашенбах знал уже каждую линию каждый жест этого красивого, истинно свободного тела и радостно всякий раз приветствовал все новое и новое проявление знакомой ему красоты. Его восхищению, его очарованию не было пределов. Мальчика звали поздороваться с гостем, подошедшим к их будке; он бежал на зов, бежал, быть может, мокрый еще, из воды, откидывал назад свои локоны и протягивал руку, стоя на одной ноге, а другую приподняв слегка на носок; в это мгновение он принимал всегда особенно обаятельную позу и выражение лица, какое-то прелестное внимательное, смущенное от вежливости и кокетливое от сознания благородного долга. Он лежал протянувшись, обвив грудь простыней, облокотившись безупречно высеченной рукой о песок и опершись о ладонь подбородком, товарищ его сидел подле него и смотрел, и трудно было представить себе более очаровательное, более пленительное зрелище, чем та улыбка глаз и губ, с которой взирал этот избранный на другого, ниже стоявшего. Он стоял у края воды, один, вдалеке от своих, совсем близко от Ашенбаха, – прямой и стройный, закинув руки за шею, медленно раскачиваясь на пятках, – стоял и мечтательно смотрел в лазурную даль, а маленькие набегавшие волны купали пальцы его нагих ног. Его золотистые волосы кольцами вились вокруг висков и всей шеи, – солнце освещало пушек на спине, – нежный и тонкий рисунок ребер и совершенная форма груди обрисовывались под тесной оболочкой купального костюмчика, кожа под мышками была еще гладкая, как у статуи, – его коленные впадины блестели и синеватые жилки на них придавали всему его телу прозрачный вид. Какая сила и какая точность мысли выявились в этом юношеском совершенном теле! Но разве строгая и чистая воля, что, действуя тайно, побудила к творению этого божественного существа, -- разве она не была знакома и ему, художнику мысли? Разве не действовала она также и в нем, когда он, преисполненный чистою страстью, из мраморной массы слова высекал благородную форму, провиденную духом его и данную им людям, как отражение духовной красоты?
Отражение красоты! Его глаза скользили по благородной фигуре там, у порога лазури, и в вдохновенном восторге он постигал, казалось, этим взглядом своим самое красоту, форму, как божественную мысль, единое и чистое совершенство, что живет в духе и чье человеческое отражение стоит здесь для восторга и поклонения. То было очарование. И бессознательно, жадно вдыхал его стареющий художник. Его дух вдохновлялся, сознание его пришло в смятение, – и память воскрешала старые, юношеские, с тех пор ни разу не оживлявшиеся собственным пылом мысли и чувства. Разве не знаем мы, что солнце отвлекает наше сознание от интеллектуальных восприятий на чувственные? Оно зачаровывает и пленяет настолько разум и память, что душа в упоении забывает о себе и с немым восхищением упивается прекраснейшими из озаренных солнцем предметов; и только с помощью какого-либо тела она становится способной затем к более возвышенному восприятию. Так и Бог для того, чтобы конкретизировать для нас духовное, пользуется обликом и формой человеческой юности, которую он венчает всем блеском совершенной красоты и при виде которой мы вдохновляемся и надеждой и скорбью.
Так думал стареющий энтузиаст, так он и чувствовал. И чары лазурного моря и горячего солнца создали перед ним пленительный образ. То старый платан неподалеку от стен древних Афин, — то было священно-тенистое, упоенное ароматом цветов прутняка место, где изображения богов и благочестивые приношения славили героев и нимф. Прозрачный ручей по гладким камням спадал к подножью развесистого дерева; гармонично стрекотали кузнечики. А на лужайке, мягко стлавшейся по склону холма, лежали два человека, укрывшиеся сюда от зноя летнего дня: старик и юноша, урод и красавец, мудрый и прекрасный. И меж любезностей и шуток, соперничавших друг с другом в тонком остроумии, Сократ поучал Фаидра чувству и добродетели. Он говорил ему о пламенном изумлении, переживаемом чувствующей душой, когда предстает перед ней отражение вечной красоты; говорил ему о том, что недобродетельный не может представить себе красоту, когда видит ее отражение, – он неспособен на благоговейное чувство; говорил о священном трепете, который овладевает благородным, когда он видит перед собой богоподобный облик, совершенное тело, – как он тогда вдохновляется, забывает кругом себя все, едва осмеливается поднять взор свой и поклоняется тому, кто несет в себе эту красоту, – он готов даже воздать ему жертвоприношение, но боится, что люди сочтут его безумным и станут смеяться над ним. Ибо красота, Фаидр, и только красота одновременно и добродетельна и очевидна; она – запомни это – единственная форма духовного, которую мы в состоянии чувственно воспринимать. Ведь что было бы с нами, если бы перед нами в чувственном, осязаемом облике предстали другие божественные черты, и разум, и добродетель, и истина? Разве не погибли бы мы, не сгорели бы от любви, как некогда Семель перед Зевсом? Поэтому красота – это путь чувствующего к духу, – только путь, только средство, — запомни это, Фаидр... И в заключение хитрый мудрец добавил самую тонкую, самую сокровенную мысль: ту самую, что любящий божественнее любимого, потому что в нем живет бог, а не в другом, -- ту самую тонкую, самую оригинальную мысль, которая когда-либо была высказана и из которой вытекает вся сущность и вся затаенная сладость чувства.
Счастье писателя – это мысль, способная стать вполне чувством, и чувство, способное стать вполне мыслью. Такая живая мысль и такое яркое чувство овладели сейчас Ашенбахом: мысль о том, что природа преисполняется блаженством, когда дух преклоняется перед красотой. Ему захотелось внезапно писать. Хотя говорят, что Эрос любит праздность и только для нее он и создан, – тем не менее в этом пункте переживаемого кризиса возбуждение Ашенбаха было устремлено в сторону творчества. Повод был почти безразличен. До него случайно дошла весть о том, что как раз теперь возбудил к себе интерес один крупный и жгучий вопрос культуры и вкуса. Вопрос этот был знаком ему, и желание осветить его силою своего слова стало вдруг для него непреоборимым. И желание это настойчиво требовало, чтобы работал он в присутствии Тадцио, чтобы при писании следил за формами его прекрасного тела, согласовал стиль свой с его благородными линиями и перенес его красоту в сферу духа, все равно как некогда орел перенес в эфир троянского пастуха. Никогда радость слова не казалась ему такой сладостной, никогда не сознавал он с такой ясностью, что в слове жив Эрос, как во время этих опасно пленительных часов, когда он за своим круглым столиком под тентом на берегу южного моря, в созерцании своего кумира и с музыкой слов его в ушах, по красоте Тадцио писал свою небольшую статью, – те полторы страницы совершеннейшей прозы, кристальная прозрачность которых, благородство и чарующая сила должны были вскоре приковать к себе восхищение многих. Хорошо, конечно, что мир знает только самое прекрасное творение, а не повод, создавший его, не условия его написания: ибо знание источников, из которых проистекает вдохновение художника, часто смущало бы его, отпугивало и тем самым извращало бы впечатление. Дивные часы! Необыкновенно плодотворное общение духа с телом! Когда Ашенбах сложил свою работу и ушел с пляжа, он чувствовал себя истощенным, разбитым, и ему казалось, будто совесть его мучится, как после тяжкого греха.
На следующее утро он, выходя из отеля по широкой лестнице, заметил, что Тадцио идет один впереди него по направлению к пляжу. Желание, наипростейшая мысль, воспользоваться удобной случайностью и завязать легкое знакомство с тем, кто, сам того не ведая, вселяет в него столько переживаний, дает ему столько ярких минут, желание просто заговорить с ним, насладиться взглядом, ответом его, вдруг появилось в его душе и стало настойчивым. Мальчик шел тихо, его легко было догнать, и Ашенбах ускорил шаги. Он нагоняет его на мостках за будками, хочет положить руку ему на голову, на плечо, – на губах у него уже ласковое слово, радушная французская фраза: но вдруг чувствует, что его сердце, быть может, от быстрой ходьбы, начинает биться с такою силой, что он, еле переводя дыхание, будет говорить запинаясь, волнуясь, невнятно; он колеблется, старается собой овладеть, боится, наконец, что, может быть, слишком долго идет уж за мальчиком, боится обратить на себя внимание, – все-таки опять нагоняет, по снова колеблется, подавляет желание и с опущенной головой поворачивает обратно.
Слишком поздно, – думает он в эту минуту. Слишком поздно. Но так ли? Было ли действительно слишком поздно? Тот шаг, сделать который он не решился, повел бы, наверное, к хорошему, легкому и радостному, к делительному отрезвлению. Но все дело было именно в том, что Ашенбах не хотел и этого отрезвления, в том, что чары эти были ему слишком дороги. Кто поймет, кто разгадает тайны художественной натуры? Кто постигнет глубочайшую слиянность в ней строгого аскетизма и распущенности? Ибо нежелание целительного отрезвления есть не что иное, как распущенность. Но Ашенбах не был способен теперь к самокритике. Вкус, духовный облик его возраста, самоуважение и зрелость не позволяли ему расчленять побудительные мотивы и раздумывать над тем, что помешало ему исполнить свое намерение, – совесть, испорченность или слабость. Он был смущен, он боялся, что кто-нибудь, хотя бы сторож, мог заметить его попытку и его поражение, боялся оказаться в смешном положении. Вообще же сам смеялся над своим комически священным трепетом. "Испугался", думал он, "испугался, как петух, который в борьбе боязливо опускает крылья. Ведь это сам бог, являя нам облик прекрасного, подрывает в нас мужество и повергает в прах наше горделивое сознание". Он шутил сам с собой и был слишком высокомерен, чтобы бояться своего чувства.
Он перестал совершенно думать о конце отдыха, который сам заранее определил; мысль о возвращении домой не приходила ему даже в голову. Он выписал себе достаточный запас денег. Он беспокоился только об одном, – об отъезде польской семьи; но, между прочим осведомившись у парикмахера в отеле, он узнал, что они приехали сюда непосредственно перед ним. От солнца у него загорели руки и лицо, – возбуждающий аромат морской соли укрепил его чувство, и подобно тому, как всегда он отдавал работе своей все то, что давал ему отдых, сон, питание или природа, так теперь все, что ежедневно получал он от горячего солнца, спокойствия и морского воздуха, он беспечно и неэкономно растрачивал без остатка на странные, чарующие переживания.
Спал он совсем мало. Дивно однообразные дни разделялись друг от друга короткими ночами, полными счастливого волнения. Он уходил к себе, правда, рано, потому что в девять часов, когда Тадцио исчезал с его горизонта, день казался ему конченным. Но уже на заре его будил сладостный трепет ожидания, сердце его вспоминало о предстоящем вновь дне, – он не в силах был оставаться в постели, вставал и слегка приодевшись садился у открытого окна, дожидаясь восхода солнца. Чудесное зрелище преисполняло его душу, освеженную сном, благоговением. И небо, и земля, и море были окутаны еще призрачно белесоватой дымкой; в безбрежном пространстве небес плыла еще угасавшая звездочка. Но слышалось дуновение, – крылатый вестник из недосягаемых сфер, вестник о том, что Эос поднялась с ложа супруга, и через мгновение обозначался уже тот первый, сладостный багрянец далекого горизонта, который сразу дает жизнь всему творению. Близилась богиня, совратительница юношей, похитившая Клейта, Кефала и на зависть всех олимпийцев наслаждавшаяся любовью прекрасного Ориона. А там на краю мира лился уж розовый дождь, невыразимо прекрасный в нежном сиянии, – маленькие облачка, прозрачные, легкие, точно амуры-приспешники, порхали в розоватом и голубоватом эфире, – сыпался пурпур на море, которое радостно увлекало его перед на гребешках легких волн, – снизу к выси небес вздымались золотистые копья, – сияние становилось пожаром, – беззвучно, с божественной мощью простирались уже вверх языки багряного пламени, – и могучею рысью кони прекрасного бога начинали свой бешеный круг вокруг ожившей вселенной. Ослепленный величием, сидел у окна одинокий, – закрывал глаза, и легкий ветерок утра целовал его сомкнутые веки. Старые чувства, ранние, дивные томления сердца, умолкшие в строгом служении его жизни и снова теперь столь чудесно воскресшие, – он узнавал их и приветствовал своей смущенной, изумленной улыбкой. Он думал, мечтал, – медленно губы его слагали имя, – и, все еще улыбаясь, с обращенным вверх лицом, скрестив на груди руки, он еще раз засыпал в своем кресле.
Но день, который начинался так пламенно-торжественно, претерпевал затем странные превращения. Откуда-то являлся неожиданно ветер, который, точно шепча о чем-то заветном и тайном, обвевал его голову. Белые, перистые облака раскидывались по небу, словно пасущиеся стада богов. Ветер крепчал и усиливался, – и мчались уж копи Посейдона, упрямые, – быть может, даже быки, покорные своему повелителю, опустив рога в бешеном беге. И к берегу неслись легкие, веселые волны, напоминавшие шаловливых коз на лугу. Священно преображенный мир завлекал к себе очарованного, одинокого зрителя, и душа его грезила о прекраснейших мифах. Часто, когда позади Венеции опускалось усталое солнце, он сидел в парке и смотрел на Тадцио, который в белом костюме с пестрым поясом играл в мяч на широкой площадке. Он смотрел на него и видел перед собой Гиацинта, который должен был умереть, потому что его любили два бога...
Нет ничего более странного, чем отношения людей, которые знают друг друга лишь с виду, – которые ежедневно и даже ежечасно встречаются, наблюдают один за другим и притом, благодаря законам приличия или собственным убеждениям, должны молча делать вид полнейшей друг другу чуждости. Эти отношения полны тогда беспокойного чувства, полны чрезмерно повышенного любопытства, неудовлетворенной и естественно подавляемой потребности в знакомстве друг с другом и в общении, полны, наконец, своего рода почтительного уважения. Ибо человек любит и уважает человека, пока он не способен к оценке его, и любовь есть продукт недостаточного знания друг друга.
Какие-нибудь отношения, какое-нибудь знакомство должно было так или иначе сложиться между Ашенбахом и юным Тадцио, и с проникновенной радостью писатель заметил, что участие и внимание никогда не остаются совсем без ответа. Что пробуждало, например, прекрасного мальчика перестать ходить утром на пляже по мосткам позади будок, а направляться всегда передней дорогой по песку, мимо будки Ашенбаха, иногда совсем вплотную к нему, мимо его кресла? Быть может, сказывалось тут влияние более сильного чувства на нежную и нетронутую натуру? Ашенбах ежедневно поджидал появления Тадцио, и иногда, издали заметив его, делал вид, что он занят, – давал мальчику проходить, совершенно не обращая на него внимания. Но иногда зато он смотрел на него, и их взгляды встречались. В эти мгновения оба они были серьезны и строги. Выразительное и почтенное лицо Ашенбаха не обнаруживало ни малейшего внутреннего волнения; но в глазах Тадцио было легкое недоумение, задумчивый вопрос, – походка его замедлялась, он опускал глаза, потом с очаровательной улыбкой снова поднимал их, и когда проходил, то что-то в фигуре его говорило о том, что только воспитанность не позволяет ему обернуться.
Но как-то раз вечером случилось иначе. За обедом в большой зале не оказалось ни Тадцио, ни сестер, ни гувернантки, – это, конечно, сразу бросилось в глаза Ашенбаху. Обеспокоенный и взволнованный их отсутствием, он прогуливался вечером в своем вечернем костюме и соломенной шляпе перед террасой отеля, когда неожиданно при свете дугового фонаря заметил приближавшихся монахинеподобных сестер с гувернанткой; в нескольких шагах позади их шел Тадцио. Они шли, очевидно, с пароходной пристани, пообедав, вероятно, по какой-то причине в городе. На воде было, должно быть, прохладно; на Тадцио была надета темно-синяя матросская курточка с золотыми пуговицами и на голове матросская шапочка. Солнце и морской воздух не оставляли следа на его коже, – она была такой же мраморно-желтоватой, как по приезде; но сегодня он выглядел почему-то бледнее обыкновенного, может быть, просто от свежести воздуха или же благодаря белому свету дугового фонаря. Его точно рисованные брови резче выделялись сейчас, глаза ярче блестели. Он был прекраснее, чем то можно выразить словом, и Ашенбах снова, как уже часто и раньше, с тоскою подумал, что слово способно лишь славить красоту, но выразить ее, описать не в состоянии.
Он был не подготовлен к радостной встрече, она произошла неожиданно, и он не успел придать своему лицу выражение спокойного безразличия и достоинства. Радость, изумление, восторг озарились, наверное, на нем, когда взгляд его встретился с глазами мальчика, – и в это мгновение Тадцио улыбнулся: улыбнулся ему внятно, приветливо, радостно и открыто, улыбнулся своими губами, которые медленно раскрылись в этой улыбке. То была улыбка Нарцисса, который склонился над зеркальной гладью воды, – та сосредоточенная, зачарованная длительная улыбка, которая приветствует отражение собственной красоты, – улыбка, слегка омраченная бесплодностью старания своего поцеловать нежные губы своего отражения, – кокетливая, любопытная, зачарованная и чарующая.
Тот, кто встретил эту улыбку, торопливо унес ее прочь, точно роковой дар. Он был так взволнован, что должен был уйти от огней террасы и сада, и торопливым шагом удалился в мрак заднего парка. Странно возмущенные и нежные мольбы вырывались невольно из его уст: "Ты не должен так улыбаться! Слышишь, -- так нельзя никому улыбаться!" Он опустился на скамью, жадно вдыхая ночной аромат цветов и деревьев. И откинувшись назад, бессильно опустив руки, подавленный внутренним трепетом, он прошептал извечную формулу страсти, – невозможную здесь и абсурдную, банальную, смешную и все же священную, все же даже здесь благоговейную: "Люблю тебя!"