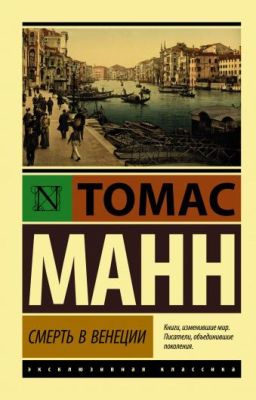Глава 5
На четвертой неделе своего пребывания на Лидо Густав Ашенбах стал делать неприятные для него наблюдения касательно окружавшего его внешнего мира. Во-первых, ему казалось, что с течением времени население отеля скорее уменьшается, чем увеличивается, и особенно, что немецкий язык вокруг него постепенно все больше смолкает, так что и за столом и на пляже до его слуха стала доноситься теперь почти исключительно чуждая речь. А потом однажды у парикмахера, которого он посещал теперь очень часто, он подхватил случайно одну фразу, которая повергла его в большое смущение. Парикмахер рассказал ему об одной немецкой семье, которая только что, после всего нескольких дней пребывания здесь, уехала обратно, и шутливым, беззаботным тоном добавил:
- Но ведь вы, сударь, конечно, останетесь? Вас это не испугает?
Ашенбах взглянул на него.
- Что не испугает? – повторил он.
Болтун замолчал, чем-то озабоченно занялся, сделал вид, что не слышал вопроса. И когда Ашенбах уже настойчивее предложил его вновь, он заявил, что ни о чем не имеет понятия, и оживленной болтовней постарался отвлечь внимание клиента.
Это было утром. После обеда Ашенбах, не смотря на полный штиль и палящий солнечный зной, поехал в Венецию. Его увлекло туда желание проследить за польской семьей, которую он видел на дороге по направлению к пароходной пристани. Однако, у Св. Марка своего кумира он не заметил. Но за чашкою чая, сидя за круглым железным столиком на тенистой стороне площади, он почувствовал неожиданно в воздухе странный запах, который показался ему каким-то давно, давно знакомым, - сладковато-аптечный запах, говоривший о муках и язвах и о подозрительной чистоте. Он задумался и узнал его, наконец, кончил пить чай и пошел по направлению к собору. На узкой улице запах еще более усилился. На углах красовались печатные плакаты, которыми население вследствие появления известного рода гастрических заболеваний, вполне естественных при такой погоде, отечески-заботливо предупреждалось против употребления устриц и раковин, а также и от питья воды из каналов. Намеренно успокоительный тон обращения был слишком прозрачен. На мостах и площадях молча толпились кучки народа. И Ашенбах задумчиво и любопытно вмешался в толпу.
Он обратился с вопросом по поводу странного запаха к владельцу магазина, который стоял у витрин, заполненных коралловыми нитками и украшениями из поддельных аметистов. Тот мрачно исподлобья взглянул на него и поспешил затем принять беззаботный вид.
- Так, просто, принимаются меры на всякий случай, - ответил он с широким жестом. - Приходится приветствовать, конечно, распоряжение полиции... Погода эта всех так волнует, сирокко вреден ведь для здоровья! Одним словом, вы понимаете, - это только предосторожности ради, - может быть, даже, совершенно излишне...
Ашенбах поблагодарил его и пошел дальше. Но и на пароходе, который отвозил его обратно на Лидо, он слышал все еще тяжелый запах дезинфекционного средства.
Вернувшись в отель, он направился прямо в читальню и стал проглядывать газеты. В иностранных он не нашел ничего. Но немецкие передавали уже тревожные слухи, сообщали цифровые сведения, помещали правительственные опровержения и выражали сомнение в их правильности. Этим и объясняется, конечно, заметный отлив немецкого и австрийского элемента. Представители же других наций не знали, по-видимому, ничего, пи о чем не догадывались и потому не выражали никакого беспокойства. "Нужно молчать", взволнованно подумал Ашенбах, бросив на стол газеты. "Нужно во что было ни стало молчать". И в то же самое время сердце его наполнилось каким-то удовлетворением по поводу того, что ожидает всех его окружавших. Ибо страсти, все равно, как и преступлению, не по душе равномерный темп и благополучие повседневности, - и всякое нарушение заурядного хода вещей, всякое смятение и волнение необходимо должно ею приветствоваться, так как она хотя и неопределенно, хотя и безотчетно, но все же надеется иметь возможность извлечь из всего этого для себя выгоду. Так и Ашенбах испытывал безотчетную радость по поводу происходящего в грязных улицах Венеции, - по поводу этой зловещей тайны старого города, которая слилась с его собственной тайной и в сохранении которой он испытывал такую потребность. Ибо ничего не страшился он так, как отъезда Тадцио, и к ужасу своему он вдруг понял теперь, что не знает, как будет жить, если это случится.
Теперь он перестал уже довольствоваться встречами и близостью с прекрасным мальчиком в определенные периоды дня, — он следил за ним, не отставал ни на шаг. В воскресенье, например, польская семья никогда не появлялась на пляже. Он догадался, что они ездят в собор Св. Марка, - поспешил туда и, с палящего зноя площади войдя в золотистый, прохладный полумрак сводов, нашел мальчика погруженным в молитву. Потом остановился сзади, на полуразрушенном мозаичном полу, посреди толпы, стоявшей на коленях, крестившейся и что-то про себя бормотавшей, - и пышная роскошь восточного храма тяжелым удушьем сковала его чувство и воображение. Впереди двигался, что-то делал и пел богато и пышно разодетый священник, - струился фимиам и застилал бессильные, тонкие огоньки свечек, - и в удушливо-сладковатый аромат его примешивался, казалось, другой запах: запах зараженного города. Но сквозь дым фимиама Ашенбах все же заметил, что мальчик повернул голову, поискал его глазами и тотчас же нашел.
Когда затем толпа полилась чрез открытый портал на ярко залитую палящим солнцем и чуть ли не сплошь усеянную голубями площадь, - он спрятался в проходе и стал ждать. Он видел, как польская семья вышла из церкви, видел, как дети церемонно простились с матерью и как та, выйдя из собора, направилась к Пиацетте. Он заметил потом, что мальчик, его монашенки-сестры и гувернантка повернули направо к воротам башни с часами. Дав отойти им немного, он последовал за ними, осторожно, украдкой, сопровождая их в течение всей их прогулки по Венеции. Ему приходилось останавливаться, когда они почему-нибудь мешкали, приходилось прятаться в лавчонках и на дворах, чтобы дать им пройти; он терял их и, изнемогая от жары и усталости, искал их на мостах и на грязных улицах. То и дело приходилось ему переживать мгновения страшного смущения, когда он неожиданно замечал их перед собою, в узких переулках, где некуда было уйти или спрятаться. Но все-таки, несмотря на все это, нельзя было сказать, что он страдает. И мозг его и сердце были охвачены каким-то опьянением, и шаги его послушно следовали указаниям демона, которому доставляет огромную радость попирать ногами и разум и достоинство человека.
Затем Тадцио с сестрами и с гувернанткой сели где-то в гондолу, и Ашенбахи спрятавшийся в это время за большим фонтаном, последовал за ними, как только они отъехали от берега. Торопливым и сдавленным шепотом, обещая щедрое вознаграждение, он требовал от гондольера, чтобы тот незаметно, па небольшом расстоянии следовал за гондолой, которая только что завернула там за угол. И его покоробило, когда гондольер с неприятной, двусмысленной усмешкой ответил ему, что постарается угодить господину.
Так скользил он, мягко покачиваясь на больших черных подушках, вслед за другою гондолой, к которой он был прикован целиком, без остатка овладевшим им чувством. Порой она исчезала из его глаз, - и он погружался в раздумье и тихую грусть. Но его гондольер, точно привыкший к таким приключениям, тотчас же ухитрялся быстрым маневрированием весел и сокращенными поворотами снова давать его взгляду заветный образ. Воздух был неподвижный и душный: нестерпимо палило солнце сквозь дымку, окутывавшую небо серовато-свинцовою пленкой. Вода монотонно плескалась о камень и дерево. Из небольших, высоко расположенных садов через покрытые плесенью каменные ограды свисали цветущие ветви деревьев, белоснежные и пурпурно-красные, издававшие аромат миндаля. В дымке тумана вырисовывались восточные арабески домов. Мраморные ступени церкви спускались прямо в воду; на них сидел нищий и в доказательство своей нищеты униженно протягивал шляпу и показывал на белки своих глаз, которые были закрыты навеки; какой-то торговец древностями перед своей лавкой заманчивым жестом приглашал проезжавших зайти к нему, в надежде поживиться их легковерием. То была Венеция, льстивая и подозрительная красавица, – город, полусказка, полуловушка для чужестранцев, в гнилой атмосфере которой некогда пышно расцвело искусство и которая вдохновляла музыкантов на мелодии, сладко нас убаюкивающие и навевающие сладкие грезы. Путнику казалось, будто и его глаз упивается этой пышностью, будто и его слух полон этих сладких мелодий. Но потом вспомнил он, что этот обманчивый город болен и заражен и что он это из корысти скрывает, и опять взгляд его жадно устремился вслед за плывшей впереди гондолой.
Он знал теперь только одно, хотел только одного: все время непрестанно быть подле того, кто вдохновлял его на высший восторг, – грезить о нем, когда его нет перед глазами, и по образцу всех любящих снабжать ласковыми словами даже тень, даже отблеск его прекрасного облика. Одиночество, тоска и счастье запоздалой, но глубочайшей страсти настолько им овладели, что он забыл все сомнения, все колебания: вернувшись поздно вечером из Венеции, он остановился в первом этаже своего отеля у дверей комнаты мальчика, в полном забвении прижался лбом к косяку двери и долго не мог уйти, рискуя, что его застанут в такой странной и подозрительной позе.
Тем не менее бывали и у него минуты просветления, минуты полусознания. Что делать? Как каждый человек, в которого естественные заслуги вселяют аристократический интерес к его происхождению, он привык при всех превратностях и успехах жизни своей думать о предках, — мысленно уверяться в их отношении к тому или иному его шагу. Он думал о них и теперь, охваченный столь необычным переживанием, во власти столь экзотического извращения чувства, – думал о сдержанной строгости, о стойком их мужестве – и улыбался печально. Что сказали бы они? Но, правда, — что сказали бы они про всю его жизнь, которая столь отлична от их жизни, его жизнь под властью искусства, о которой он сам некогда, в буржуазном духе отцов своих, высказал столько насмешливых мыслей и которая, в сущности, в корне своем, была так похожа на их жизнь? Ведь и он также служил, ведь и он был солдатом и воином, подобно многим из них, — ибо искусство — тоже война, тоже мучительная, страшная борьба, на которую человека хватает ненадолго. Жизнь самопреодоления, жизнь вопреки и наперекор всему, — суровая жизнь, полная лишений и выдержки, жизнь, которую он сам возвысил в эмблему высшего, современного героизма, — он может, он имеет полное право назвать ее мужественной, назвать ее отважной и смелой, — и тут же казалось ему, что Эрос, который овладел душою его, почему-то вполне соответствует именно такой его жизни. Разве не был он в особенном почете именно у самых отважных народов? Бесчисленные военные герои прошлого охотно, с восторгом несли его иго, ибо не было никакого унижения ни в чем, что предопределял этот бог, — и поступки, которые порицались бы, как признаки трусости и слабости, если бы совершались с иною целью — мольбы, клятвы, рабская преданность — не покрывали позором головы влюбленных, а всегда, во все времена служили их украшением!
Так мыслил Ашенбах, так старался он себя поддержать, так думал сохранить чувство собственного достоинства. Но в то же время постоянно, с каким-то странным упорством внимание его устремлялось на происходившее в Венеции – на те роковые явления внешнего мира, которые загадочно сплетались с переживаниями его сердца и питали его страсть какими-то неопределенными и странными надеждами. В неотразимом желании узнать новые подробности о надвигавшемся бедствии, он перелистывал в венецианских кофейнях немецкие газеты, которые почему-то вот уже несколько дней совсем исчезли из читальни отеля. В них он находил и слухи, и факты, и опровержения. Число заболеваний, число смертных случаев достигало двадцати, сорока и даже ста в день, — и тут же, рядом чуть ли не каждый случай холеры, если не совсем опровергался, то во всяком случае объяснялся случайным занесением заразы. Предостерегающие голоса, протесты против опасной игры властей были рассыпаны повсюду. Но правды узнать было немыслимо.
Тем не менее Ашенбах сознавал почему-то свое особое право считать себя соучастником тайны и находил какое-то странное удовлетворение в том, что задавал щекотливые вопросы другим, посвященным в тайну, и вынуждал на открытую ложь тех, кто обязан был соблюдать строгое молчание. Однажды за завтраком в большом зале отеля он заговорил по этому поводу с управляющим, с маленьким, мягко ступавшим человеком в длинном сюртуке французского покроя, который, наблюдая за порядком, ходил между столиками и остановился между прочим для приветствия и около Ашенбаха.
Почему, собственно, спросил гость небрежным и ничего не выражающим тоном, — почему собственно подвергают сейчас дезинфекции город, — ведь нигде кроме Венеции, ничего подобного не практикуется?
— Это просто напросто, — ответил маленький человек, — полицейская предосторожность. Они обязаны предупреждать всякую возможность вреда для здоровья и благополучия населения, какой легко может получиться от продолжительной сухой и жаркой погоды.
— Такую предусмотрительность полиции можно, конечно, только приветствовать, – заметил Ашенбах; и после обмена несколькими метеорологическими соображениями управляющий отошел.
Еще в тот же день вечером, после обеда, в парк перед отелем явилась из города небольшая группа уличных певцов. Двое мужчин и две женщины стояли у железного столба большого дугового фонаря, подняв свои бледные от сильного электрического света лица к большой террасе, с которой обитатели отеля за кофе и прохладительными напитками слушали национальное пение. В двери отеля высыпал персонал, — проводники лифтов, лакеи и служащие конторы. Русская семья, падкая на все развлечения, велела снести соломенные кресла в сад, чтобы быть поближе к певцам. Позади них с платком на голове, стояла старая нянька.
В руках странствующей группы была мандолина, гитара, гармоника и скрипка. Инструментальные номера сменялись вокальными, — и младшая из женщин с резким, крикливом голосом начинала томный любовный дуэт с сладким фальцетом мужчины. Но настоящим талантом и главой всей компании оказался, несомненно, другой мужчина, обладатель гитары и своего рода баритон-буфф, почти при этом без голоса, но с большими мимическими способностями и изумительной комической энергией. То и дело со своим большим инструментом в руках он выделялся из группы и выходил вперед, к самой террасе, где его выходки сопровождались всякий раз одобрительным смехом. Особенно русские в партере были в восторге от его чисто южной подвижности и аплодисментами и одобрительными возгласами побуждали его быть все развязнее.
Ашенбах сидел у балюстрады террасы и освежал свои губы смесью гранатового сока с содовой водой, которая рубиновым блеском сверкала перед ним в высоком бокале. Его нервы жадно воспринимали певучие напевы, вульгарные, томные мелодии, — ибо страсть парализует разборчивый, утонченный вкус и находит радость в резких раздражениях, которые трезвым чувством были бы встречены с шутливой усмешкой или даже с негодованием. Пение и жестикуляция фокусника-баритона вызвала на его лице какую-то застывшую и почти скорбную улыбку. Он сидел с небрежным видом, между тем как внимание его было напряжено до крайних пределов: шагах в шести от него, облокотившись о перила террасы стоял Тадцио.
Он стоял там в белом костюме, который надевал иногда вечером к обеду, стоял со своей неописуемой, прирожденной, естественной грацией, левой рукой опершись на балюстраду, скрестив ноги, а другую руку держа на бедре; он смотрел на певцов, и во взгляде его была не то легкая улыбка, не то отдаленное любопытство, не то вежливое участие. По временам он выпрямлялся и, выставляя вперед грудь, красивым движением обеих рук оправлял белую курточку с кожаным поясом. Но иногда с восторгом, с упоением, но в то же время с ужасом замечал это Ашенбах, — он медленно и осторожно или же, наоборот, быстро и неожиданно, словно хотел застигнуть врасплох, поворачивал голову через левое плечо в сторону того, кто был полон мыслью о нем. Он не встречал его глаз, ибо трепетный страх заставлял Ашенбаха боязливо скрывать свои взгляды. Сзади него, на той же террасе сидели женщины, охранявшие Тадцио, — и дело доходило до того, что Ашенбах принужден был бояться обратить на себя их внимание и внушить подозрение. К ужасу своему и отчаянию он уже не раз замечал на пляже, в отеле и на площади Св. Марка, что Тадцио стараются держать вдали от него, часто отзывают, не отпускают от себя, — и он испытывала; страшное, невыразимое оскорбление, от которого гордость его страдала неведомой доселе мукой и отринуть которое от себя препятствовала ему его совесть.
Между тем гитарист под собственный аккомпанемент начал сольную песню, длинную, широко распространенную в то время в Италии уличную песнь, припев которой подхватывался всякий раз всей компанией и всеми наличными инструментами и которую он сумел передать действительно с большим пластически-драматическим подъемом. Стройно сложенный, с худым и бледным лицом, он стоял в бравурной позе, отделившись от своих сотоварищей, надвинув истрепанную шляпу на затылок, так что из-под полей сзади виднелся клок его ярко-рыжих волос, — стоял и под бренчание струн бросал на террасу слова, в то время как от творческого напряжения жилы на лбу его налились кровью.
В нем было мало венецианского, — он был скорее типа неаполитанских комиков, полусутенер, полукомедиант, грубый и смелый, опасный, но интересный. Песенка его, по содержанию своему не больше, чем пошлая, приобретала в его устах, в его мимике, в его телодвижениях и его манере многозначительно подмаргивать глазом и облизывать языком уголки рта что-то двусмысленное, что-то непристойное. Над мягким ворогом спортивной рубашки, которая была на нем под обыкновенным городским костюмом, поднималась его худощавая шея с громадным, точно, обнаженным адамовым яблоком. Его бледное лицо с тупым носом и без всякой растительности, по которому трудно было определить его возраст, было изборождено все, казалось, гримасами и пороком, и странно гармонировали с подвижностью его губ две глубокие морщины, которые упрямо, повелительно, почти дико вырисовывались меледу его рыжих бровей. Но особое внимание Ашенбаха привлекло еще то, что подозрительная фигура этого человека распространяла, по-видимому, вокруг себя и свою собственную подозрительную атмосферу. Всякий раз, когда начинался припев песенки, певец, кривляясь и гримасничая обходил дважды кругом площадку перед террасой, и всякий раз, пропуская его мимо себя, Ашенбах чувствовал сильнейший карболовый запах, исходивший от его платья, от всего тела.
Кончив песенку, он начал собирать деньги. Сперва он подошел к русским, которые охотно и щедро подали ему; потом поднялся по ступенькам на террасу. Насколько нагл и смел он был во время пения, насколько же униженно держался он сейчас. Сгорбившись, на цыпочках, скользил он меж столиками, и улыбка коварной угодливости обнажила его сильные зубы, — между тем две морщины на лбу по-прежнему грозно и вызывающе вырисовывались меж его рыжих бровей.
Все с любопытством и некоторым отвращением смотрели на это чуждое всем существо, снискивающее таким путем себе пропитание, — кидали кончиками пальцев монеты в его грязную шляпу и боялись притронуться. Устранение физического расстояния между комедиантом и зрителями всегда, даже при самом большом успехе, вызывает некоторое смущение. Он его чувствовал и старался извинить себя этой униженностью. Наконец, он подошел к Ашенбаху, — а вместе с ним и запах, на который кругом никто не обращал, по-видимому, никакого внимания.
—Послушай, – сказал ему одинокий сдавленным, почти механическим тоном. – Венецию дезинфицируют. Почему это?
Комедиант хрипло ответил:
— Это полиция. Это, сударь, необходимо при такой жаре и сирокко. Сирокко вреден. Вреден для здоровья.
Он говорил, точно удивленный тем, что об этом можно спрашивать и ладонью своей показал, что такое сирокко.
— Так никакой болезни в Венеции нет? — спросил опять Ашенбах совсем тихо, сквозь зубы.
Резкие черты комедианта исказились гримасой комического неведения.
— Болезни? Да какой же болезни? Разве сирокко болезнь? Вы шутите, сударь. Болезнь? Тут нет ничего удивительного. Это временное правило, поймите же вы! Полицейское распоряжение в виду вредной погоды...
Он начал жестикулировать.
— Ну, хорошо, — сказал опять коротко и тихо Ашенбах и быстро кинул в шляпу несоразмерно крупную монету.
Потом дал глазами знак человеку, что он может идти. Тот повиновался, кланяясь и улыбаясь. Но не успел он дойти до лестницы, как на него накинулись два служителя отеля и, подойдя вплотную к нему, стали его настойчиво допрашивать. Он пожимал плечами, уверял, клялся, что ничего не говорил, — это было видно. Когда его, наконец, отпустили, он не вернулся в сад и, пошептавшись с своими товарищами у фонаря, начал прощальный номер в знак своей благодарности.
Ашенбах не мог припомнить, слыхал ли он когда-нибудь эту песенку. Сложенная на каком-то непонятном диалекте, она кончалась, вместо припева, смехом, который подхватывался во все горло всей компанией. Тут не слышалось больше ни слов, ни аккомпанемента, — не оставалось ничего, кроме ритмически слаженного, но чрезвычайно естественного смеха, который с особенным искусством передавал рыжий комедиант. Восстановив столь необходимое расстояние между собой и слушателями, он вернул себе свою прежнюю развязность, — и его искусственный смех, который он бесстыдно и нагло посылал наверх на террасу, звучал точно насмешливый хохот. Уже под конец каждой строфы он начинал, казалось, бороться с овладевавшим им смехом. Он запинался, голос его вздрагивал, он прижимал руку ко рту, он уходил головой в плечи, и в нужный момент из его рта вырывался неистовый хохот, — настолько естественный и неподдельный, что он действовал заразительно, что начинали смеяться, и слушатели и что в конце концов всеми присутствовавшими овладела какая-то беспричинная, непроизвольная веселость. Но это именно и усилило, по-видимому, неистовство комедианта. Он сгибал колени, ударял себя по ляжкам, хватался за бока, он не смеялся уже больше, он кричал и выл; пальцем указывал он наверх, точно нет на свете ничего более смешного, чем эти люди, которые смеются там наверху, — и в конце концов действительно все в саду и на террасе стали смеяться, все, вплоть до лакеев, проводников и служителей в широких дверях отеля.
Ашенбах не сидел уже, откинувшись в кресле, — он выпрямился, точно готовился к отпору или к бегству. Но хохот, доносившийся больничный запах и близость прекрасного Тадцио сливались дня него в какие-то незримые чары, которые неотступно и непреоборимо владели его мозгом и сердцем. Посреди общего движения и шума он решился взглянуть на Тадцио и заметил, что мальчик, ответив на его взгляд, остался тоже серьезным, как будто он согласовал свое поведение и выражение лица с настроением другого и как будто общая веселость не оказывает на него никакого впечатления, когда тот, другой, в ней не принимает участия. В этом детском и странном соответствии было столько обезоруживающего, столько значительного, что старый писатель с трудом удержался от того, чтобы закрыть себе лицо руками. Ему показалось даже еще, что случайное движение Тадцио означало подавленный вздох, точно ему трудно было дышать. "Он болезненный, он проживет, вероятно, недолго", подумал он снова с какой-то серьезностью, с которой иногда странно сплетается страсть и пылкое чувство; и сердце его наполнилось в одно и то же время и чистой грустью, и каким-то сладострастным удовлетворением.
Между тем венецианцы кончили и стали уходить. Им усиленно аплодировали, и их предводитель не преминул, конечно, разукрасить уход свой всевозможными выходками. Зрители смеялись над его ужимками и прыжками, и потому он удвоил теперь их. Когда его товарищи вышли уже из парка, он нарочно наткнулся на большой фонарный столб и весь корчась от притворной боли заковылял по направлению к воротам. Там, наконец, он сбросил с себя маску паяца, эластично выпрямился, нагло высунул гостям на террасе язык и скрылся во мраке. Общество стало расходиться. Тадцио давно уже не стоял у балюстрады. Но одинокий сидел еще долго, к удивлению лакеев, за остатком своего гранатового сока у маленького круглого столика. Надвигалась ночь, время куда-то исчезло. В доме у родителей, много, много лет назад, были песочные часы, — и он сейчас увидал вдруг перед собой хрупкий инструмент, точно он стоял тут перед ним на столе. Беззвучно сыпался ржаво-красный песок через тонкое отверстие, и так как в верхней половине он был уже на исходе, то там образовался в кучке маленький, зыбкий кружочек...
На следующий день, после обеда Ашенбах предпринял опять разведку в Венецию и на сей раз с большим успехом. На площади Св. Марка он зашел в английское бюро путешествий и, разменяв в кассе деньги, обратился с миной недоверчивого иностранца к говорившему с ним клерку со своим зловещим вопросом. То был прекрасно одетый англичанин, еще молодой, с гладким пробором посреди черепа, очень близко друг от друга расположенными глазами и с тою лояльностью во всем своем облике, которая производит такое чуждое, такое странное впечатление на веселом, смеющемся юге. Тот ответил ему: "Нет, сэр, у вас нет никаких оснований беспокоиться. Это просто полицейская мера предосторожности, никакого серьезного значения она не имеет. Такие распоряжения издаются очень часто для предупреждения вредных последствий жары и сирокко"... Но подняв свои голубые глаза, он встретил взгляд иностранца, слегка утомленный и грустный взгляд, который с легким презрением был устремлен на него. Англичанин покраснел. "Таково", продолжал он вполголоса, "таково официальное объяснение, ограничиваться которым считают здесь более целесообразным. Я же лично могу нам сказать, что тут есть нечто иное". И на удобном, искреннем языке он рассказал ему правду.
Уже в течение нескольких лет индийская холера обнаруживает усиленную тенденцию к распространению и передвижению. Родившись в жарких болотах дельты Ганга, поднявшись вместе с вредными испарениями того пышного, но негодного для человека первобытного мира, в бамбуковых джунглях которого бродят тигры, холера долго и страшно свирепствовала во всем Индостане, перекочевала к востоку в Китай, на запад в Афганистан и в Персию и. следуя широкой дорогой караванного пути, добралась до Астрахани и дальше вплоть до Москвы. И в то время как Европа дрожала от страха, что страшный призрак может оттуда проникнуть и дальше, она, завезенная морем купцами из Сирии, вспыхнула одновременно во многих портах Средиземного моря, — разрослась в Тулоне и в Малаге, несколько раз обнажала свой ужасающий лик в Палермо и в Неаполе и, казалось, не хотела никогда уж уходить из Калабрии и Апулии. Но север Аппенинского полуострова до сих пор оставался пощаженным. Однако, в средине мая этого года в Венеции в один и тот же день нашли страшные вибрионы в изможденных, почерневших трупах одного матроса и одной зеленщицы. Случаи эти были скрыты. Но через неделю их было уж десять и двадцать, и тридцать и при том в разных кварталах. Один господин из австрийской провинции, проведший удовольствия ради несколько дней в Венеции, умер, вернувшись в свой родной городок, при чем симптомы его болезни не оставляли никакого сомнения. Этим и объяснялось, что первые слухи о надвигающемся на Венецию бедствии появились раньше всего в немецких газетах. Венецианские власти поместили заявление о том, что санитарные условия города находятся в прекрасном состоянии и, что все меры борьбы с болезнью предприняты. Но, по всей вероятности, зараза коснулась уже предметов потребления, овощей, мяса или молока, потому что смертность в узких уличках города не переставала возрастать, и преждевременно наступившие летние жары, которые сразу нагрели воду каналов, особенно благоприятствовали распространению болезни. Казалось, будто силы холеры удвоились, будто возросла стойкость и плодовитость ее возбудителей. Случаи выздоровления стали редки; восемьдесят из ста заболевших умирали и при том самым ужасающим образом, потому что болезнь развивалась с непостижимою быстротой и зачастую носила самую опасную форму, именуемую "сухою". Тело было не в состоянии выделять громадное количество воды, выделявшееся кровеносными сосудами. В течение нескольких часов больной высыхал и задыхался превратившейся в тягучую жидкость кровью, умирал в судорогах и страшных стенаниях. Счастье еще, если после легкого головокружения он впадал иногда в глубокое обморочное состояние, из которого уже никогда ему не суждено было проснуться. В начале июня изолированные бараки были уже заполнены, в обеих главных больницах не хватало уже места, — и постоянное, оживленное общение установилось между новою набережной и островом кладбищ. Но страх перед всеобщими убытками, забота о только что открывшейся выставке картин в общественном парке, боязнь громадного ущерба, который понесли бы в случае паники и всеобщего бегства отели, магазины и вся разнообразная деловая жизнь, тесно связанная с наплывом иностранцев, — этот страх побудил властей упорно придерживаться политики замалчивания и категорического отрицания. Старший руководитель санитарного дела в Венеции, заслуженный, уважаемый человек, с возмущением отказался от своей должности и был поспешно заменен другим, более податливым. Народ это знал: и столь откровенная лживость властей в связи с господствовавшим беспокойным состоянием, в которое повергала город возраставшая смертность, повлекла за собой своего рода развращение низших слоев населения, вызвала на свет темные, антисоциальные инстинкты, что дало в результате разврат, невоздержанность и увеличение преступности против обыкновения можно было видеть по вечерам много пьяных; подозрительные личности шныряли по улицам; участились разбойные нападения и даже убийства, — уже дважды выяснилось, что якобы умершие от холеры были на самом деле отравлены их собственными же родственниками; разврат стал тоже принимать отвратительные формы, здесь совершенно доселе незнакомые и встречающиеся лишь на самом крайнем юге страны или на востоке.
Обо всем этом подробно и категорически повествовал англичанин.
— Я вам советую, — сказал он в заключение, — уехать как можно скорее. Через несколько дней — не больше — надо ждать учреждения карантина.
— Благодарю вас, — заметил Ашенбах и вышел из бюро.
Площадь изнемогала от зноя и духоты. Ничего не ведавшие иностранцы сидели перед кафе или стояли перед собором и смотрели, как голуби, с писком и глухим воркованием, ударяясь крыльями и оттесняя друг друга, клевали маисовые зерна прямо из рук. В лихорадочном возбуждении, торжествуя от обладания истиной, но чувствуя все же какой-то привкус отвращения и странный ужас в душе, одинокий шагал взад и вперед по плиткам великолепной площади. Он обдумывал неожиданно представший перед ним план. Сегодня вечером после обеда он мог подойти к украшенной жемчугами даме и сказать ей спокойно, уверенно: "Разрешите, мадам, мне чужому, служить Вам советом, который, мне кажется, вам будет не бесполезен. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас же вместе с Тадцио и вашими дочерьми. Венеция заражена". Он мог бы тогда на прощание положить своему божеству руку на голову, поспешно отвернуться и бежать, бежать скорее отсюда. Но в то же время он чувствовал, что он бесконечно далек от того, чтобы на самом деле хотеть этого плана. Он вдруг вспомнил белый собор в Мюнхене, украшенный священными надписями, в прозрачном мистицизме которых растворился взгляд его духа; вспомнил и ту странную фигуру путника, который пробудил в нем юношескую жажду к странствиям: и мысль о возвращении домой, о благоразумии, трезвой работе и даже творчестве вызвала такой протест в его душе, что лицо его исказилось гримасой физического отвращения "Нужно молчать" прошептал он взволновано. – "И я буду молчать". Сознание своей причастности к тайне, своей совиновности опьяняло его все-равно, как опьяняет утомленный мозг небольшое количество вина. Образ зараженного и опустошенного города, смутно мелькая в сознании его, возбуждал в нем надежды, неясные, затмевавшие разум, но невыразимо сладостные и невыразимо приятные. Что ему то тихое счастье, о котором он только что грезил, что оно по сравнению с этими надеждами? Что для него теперь и искусство и добродетель по сравнению с преимуществами всеобщего хаоса? Он замолчал и остался.
В эту ночь он видел ужаснейший сон, — если только сном можно назвать конкретное душевное переживание, которое хотя он и испытал в глубочайшем сне, в полной независимости от своего чувственного восприятия, но и без того, что он вне этих переживаний сознавал себя в пространстве и во времени; ареною этих явлений была сама него душа, — они ворвались в нее снаружи, насильственно преодолев его сопротивление, сопротивление глубокое и упорное, — прошли сквозь него и оставили опустошенной, разрушенной всю культуру всей его жизни.
В начале был страх, — страх и радость — и неотразимое любопытство пред тем, что его ожидает. Была ночь и чувства его были настороже: ибо издали доносился шум, грохот, смешение звуков: топот, дребезжание и глухой гром, резкие крики и какой-то вой, — но все как-то загадочно и ужасающе пленительно заглушалось певучей и сладострастной игрою на флейте, которая настойчиво и неотразимо чаровала. Но он знал одно слово, непонятное, но соответствовавшее тому, что на него надвигалось: "чуждый бог". Разорвалась завеса тумана: он узнал гористую местность, похожую на местность перед его летним домом. И в рассеянном свете с лесистых холмов, меж деревьев и поросших мохом обломков скал, катилась и мчалась в бешеном хаосе пестрая толпа: люди, звери, буйная ватага, — она заполнила всю долину телами, огнями, шумом и бешеным хороводом. Женщины, спотыкаясь в своих длинных шкурах, которые свешивались у них от пояса, бряцали бубнами над закинутыми назад головами, потрясали вонючими факелами, размахивали обнаженными кинжалами, хватали извивающихся змей или с криками подымали на руках свои обнаженные груди. Мужчины с рогами на лбах, подпоясанные шкурами и сами с косматою кожею, сгибали спины, махали руками, ногами, гремели железными цимбалами, — а юные мальчики с обвитыми зеленью посохами толкали козлов, с веселым ликованием цепляясь за их рога. И все они издавали какие-то клики, красивые и дикие в то же время, клики, которые едва ли слыхал когда-либо человек: — они раздавались то громко и резко, то находили отклик себе в диком триумфе, — побуждали к пляске и к бурным телодвижениям, — и никогда не смолкали. Но все заглушал и над всем господствовал певучий, пленительный звук флейты. Быть может, упорно и неотразимо влек он и его, сопротивлявшегося, к дикой оргии, излишествам наивысшей жертвы. Велико было его отвращение, велик его страх, искренне желание до конца защищать свое против чужого, против сильнейшего и достойного врага. Но шум, вопли и вой, удесятеренный эхо скало, возрастал, заглушал собою решительно все, превращался в сплошное безумие. Разум туманили и испарения, едкий запах козлов, запах тяжело дышащих тел, испарения гнилостных вод и еще один запах, знакомый: запах ран и страшной болезни. Тяжело содрогалось его сердце, путался мозг, им овладела ярость, ослепление, всесокрушающее сладострастие, и душа его жаждала примкнуть к хороводам чуждого бога. Непристойный символ, огромный, из дерева был принесен и воздвигнут на пьедестал. И неистовство стало достигать апогея, пена выступала на губах, -- все возбуждали друг друга откровенными жестами, хохотали, вопили, вонзали трезубцы друг другу и лизали кровь прямо с тела. Но с ними, вместе с ними, был теперь и грезящий, — только им и чуждому богу принадлежал он теперь. Больше того: им самим были они, когда, раня и убивая, они кинулись на животных и пожирали еще горячие, дымящиеся кровью куски мяса, — когда на измятом, истоптанном мху началось хаотическое смешение всех и вся, высшая жертва богу. И душа его вкусила разгул и бешенство гибели.
От этого сна Ашенбах проснулся измученный, утомленный, разбитый, бессильно, безвольно отдавшийся во власть демона. Он не боялся больше пытливых взглядов людей; он нисколько не интересовался теперь уже больше, отражается ли в них подозрение. Да и кроме того все разъезжались, все бежали отсюда; многочисленные купальные будки уже опустели, в большой зале отеля стало пусто, а в городе редко можно было встретить теперь на улице иностранца. Правда, по-видимому, все-таки стала известна, и панику, несмотря на все усилия заинтересованных лиц, предупредить было немыслимо. Но дама с жемчугами вместе с семьей своей не уезжала, — может быть, потому, что слухи до нее не доходили или же потому, что она была слишком горда и бесстрашна, чтобы с ними считаться. Тадцио остался, и Ашенбаху, его отуманенному сознанию казалось порою, что паническое бегство и смерть может смести вокруг все живое и он вместе с мальчиком останется один на этом острове... Когда по утрам его взгляд тяжело и неотступно был устремлен на прекрасного, когда вечером он открыто, без всякого смущения следовал по пятам его по улицам, в затаенных углах которых пряталась смерть, — будущее, страшное будущее рисовалось перед ним в розовом свете, — и все законы морали казались ненужными...
Как всякий влюбленный, он хотел нравиться и испытывал жгучий страх, что этого может и не быть. Он украшал свой костюм всякими мелочами, начал носить драгоценности, стал душиться, — несколько часов в день тратил теперь на туалет и появлялся к столу разряженный, взволнованный и экзальтированный. Перед лицом сладостной юности, которая опьяняла его своими неотступными чарами, он чувствовал отвращение к своему старевшему телу; вид его седых волос и обострившихся черт лица приводил его в отчаяние, внушал ему какой-то стыд. Он жаждал физически окрепнуть, восстановить свою молодость. Стал посещать часто парикмахера в отеле.
Закутанный в белый халат, под осторожными и хлопотливыми руками болтуна-парикмахера, он откинулся как-то на спинку кресла и с печальным видом взглянул на себя в зеркало.
— Какой я седой, – сказал он с гримасой.
— Да, есть немного, – отвечал парикмахер. – И только благодаря вашей собственной небрежности, только благодаря вашему равнодушию к внешности. Оно, конечно, понятно у таких людей, как вы, сударь. Но все-таки как раз вы-то и не должны были бы питать предрассудков касательно всяких искусственных средств. Ведь если бы эти предрассудки доводить логически до конца, то и искусственные зубы должны были бы точно также порицаться, как и все остальное. В конце концов нашу старость определяет только наш разум и наше сердце, — и седые волосы очень часто более неестественны, чем искусственно выкрашенные. Вы, сударь, как раз имеете полное право так рассуждать. Разрешите мне придать вашим волосам их естественный цвет.
-- Каким же образом? -- спросил Ашенбах.
Красноречивый фигаро вымыл волосы клиента какими-то двумя водами, сперва прозрачной, а потом темной, -- и они стали черными, как в былые, юные годы. Потом он завил их ножницами, отошел немного поодаль и любовно осмотрел произведение рук своих.
— Теперь нужно было бы, – добавил он, – освежить еще немного цвет лица.
И как художник, который никак не может закончить картину, который все время не остается удовлетворен работой, он с деловитой поспешностью стал применять один прием за другим. Ашенбах, удобно откинувшись в мягкое кресло, не способный к отпору и протесту и скорее приятно взволнованный всем происходящим, видел в зеркале, как брови его становятся резче, отчетливее, как разрез глаз удлиняется, как блеск их возрастает от легких штрихов кисти под веками, – видел, как на коричневатой, огрубевшей коже пробуждается легкий румянец, как губы его, только что тонкие и малокровные, становятся пурпурно-красными, полными жизни, — как исчезают бесследно морщины щек, рта, складки под глазами, — и с биением сердца увидел, наконец, перед собою цветущего юношу. Парикмахер, наконец, кончил и с угодливою вежливостью выразил ему свою благодарность. "Ну, вот теперь совсем хорошо", заметил он, оглядывая еще раз свое творчество. "Теперь вы, сударь, можете хоть прямо влюбиться". И Ашенбах ушел, счастливый, смущенный и трепетный.
На нем был красный галстук и большая соломенная шляпа с пестрою лентой.
Откуда-то подул небольшой, теплый ветер. Перепадал мелкий дождь. Но воздух был влажный, душный, насквозь пропитанный гнилостными испарениями. Духота уничтожала всякий аппетит, и невольно всплывало представление, будто все кушанья отравлены едкой заразой.
По следам мальчика Ашенбах углубился однажды в запутанный лабиринт зараженного города. Потеряв всякую путеводную нить, потому что все закоулки, мосты, площади и фонтаны Венеции очень похожи друг на друга, не отдавая себе отчета даже в направлении по которому он продвигался, он только думал о том, как бы не упустить из виду заветный образ Тадцио. Вынужденный соблюдать необходимую осторожность, прячась за выступы стен, за спины прохожих, он долго не чувствовал усталости, которая овладела его душою и телом от постоянного напряжения... Тадцио шел позади, он уступал обычно дорогу в тесных улицах своей гувернантке и своим монашенкам-сестрам и, идя сзади один, он часто поворачивал голову, точно для того, чтобы взглядом своих сумеречно-серых глаз удостовериться в присутствии своего неотступного провожатого. Он видел его, но не выдавал ничем этой тайны. Опьяненный этим сознанием, влекомый непрестанно вперед этим взглядом, точно за веревочку влекомый вперед своей страстью, Ашенбах шел безотчетно, мысля все только об одном, — но и это его обмануло. Тадцио с сестрами перешли через высокую арку моста, — арка на мгновение скрыла их от его взгляда, и когда он сам перебрался на ту сторону канала, их уже не было. Он искал их в трех направлениях, прямо и по обеим сторонам узкой и грязной набережной, – но тщетно. Отчаяние и утомление заставили его, наконец, бросить поиски.
Голова его горела, все тело было покрыто клейким потом, — ноги подкашивались, — его мучила нестерпимая жажда, – он оглянулся в поисках хоть чем-нибудь утолить эту жажду. В крохотной лавочке он купил немного ягод, клубники, — перезрелой и мягкой, — и съел ее тут же. Пред ним была небольшая площадь, пустынная, покинутая, — он узнал ее, он был здесь, когда несколько недель назад принял здесь рушившийся потом план отъезда. Он опустился на ступени бассейна посреди площади и прислонился головой к камням. Было мертвенно тихо, между булыжниками мостовой проросла трава, – повсюду валялись отбросы. Из ряда однообразных, грязных, низких домов выделялся один, напоминавший дворец, с причудливыми, круглыми окнами, позади которых зияла пустыня, и небольшими балкончиками, украшенными изваяниями львов. В подвале соседнего дома помещалась аптека. Порывы теплого, влажного ветра доносили оттуда карболовый запах.
Он сидел там, — он, художник слова большой и прославленный мастер, автор "Несчастного", он, чье имя внушало почтительное уважение, он, снискавший себе и внешний почет, он, на слове которого воспитывается уже юное поколение, — он сидел там, — его веки были сомкнуты, и только порой из-под них, снова потом быстро скрываясь и прячась, скользил полунасмешливый, полурастерянный взгляд, — и его утомленные губы, косметически пурпурно-юные, шептали отдельные слова из того, что в странной, призрачной логике роилось в его полуспавшем мозгу.
"Ибо только красота, Фаидр, только она, заметь себе это, божественна и очевидна, и поэтому только она путь чувства, путь художника к духу. Но неужели, мой милый, ты думаешь, что мудрость и истинное достоинство мужа может когда-либо стать уделом того, для которого путь к духу ведет через чувство? Или думаешь ты, может быть, (я не хочу предрешать твоего мнения), что это прекрасный, но скользкий путь, поистине путь греха, и что он с необходимостью влечет нас к греху? Ибо ты должен знать, что мы, художники, не можем идти путем красоты без того, чтобы на этом пути руководителем нашим не становился Эрос. Пусть мы будем на наш лад героями и добродетельными воинами, мы все же мягки, как женщины, ибо наше вдохновение – страсть, а страсть должна быть любовью, – в этом наше счастье и наш позор. Понимаешь ли ты теперь, что мы, художники, не можем стать ни мудрыми, ни достойными? Что мы непременно впадаем в греховность, что становимся непременно авантюристами чувства? Мастерство нашего стиля – ложь и надувательство, наша слава и почет – чепуха, доверие к нам толпы смешно и нелепо, воспитание народа и юношества чрез посредство искусства рискованно и опасно. Ибо как может быть воспитателем тот, у кого врожденно неисправимое и естественное стремление к низинам жизни? Мы можем его отрицать, можем достигнуть почета, но как бы мы ни отворачивались, в конце концов оно нами все-таки овладевает. Оно влечет нас неотступно и неотразимо к этим низинам, ибо не умеем мы подниматься в высь, а можем только растворяться. А теперь ухожу я, Федр, а ты оставайся. И когда я скроюсь из твоих глаз, иди и ты".
Через несколько дней утром Густав фон-Ашенбах вышел из отеля позднее обыкновенного. Ему нездоровилось. Им овладела какая-то странная, только на половину физическая дурнота, сопровождавшаяся сильным, непреоборимым чувством страха, чувством полной беспомощности и безвыходности. Но самое странное, что было неясно: относится ли это чувство к внешнему миру или к нему самому? В вестибюле он заметил множество приготовленного к отправлению багажа, спросил швейцара, кто уезжает, и услышал в ответь польскую фамилию, уже знакомую ему и раньше из расспросов. Изможденные черты лица его даже не дрогнули; слегка кивнув головой, как бы в знак того, что это его мало интересует, он спросил еще мимоходом: "И когда?". Ему ответили: "После завтрака". Он вышел из вестибюля и направился к морю.
Там было неуютно. По широкой, мелкой полосе воды, отделявшей берег от первой мели, пробегали спереди взад белые гребешки. Осеннее дыхание обвевало это недавно столь пестро оживленное, а теперь всеми покинутое место. Пляж не содержался уже в такой чистоте, как раньше. У края воды на треногом штативе торчал одиноко фотографический аппарат, и черное сукно, наброшенное на него, трепалось на свежем ветре.
Тадцио с тремя или четырьмя из оставшихся сверстников, играл направо от будки своих сестер. Покрывшись пледом и устроившись в кресле почти в середине между морем и своей будкой Ашенбах в последний раз наблюдал за ним. Игра мальчиков, — сегодня без надзора старших, так как те были заняты, по-видимому, приготовлениями к отъезду, не клеилась. Высокий мальчик в курточке с ремнем, с черными, напомаженными волосами, рассерженный брошенной ему в лицо горстью песка, затеял борьбу с Тадцио, которая кончилась, конечно, очень быстро поражением более слабого Тадцио. Но как будто в прощальный час уступчивость превратилась в жестокую грубость и жаждала отмщения за долгое рабство: победитель не сразу оставил побежденного, а прижав его спину коленом, старался вдавить его лицо в песок, так что Тадцио, и без того еле переводивший дыхание во время борьбы, начал, по-видимому, задыхаться. Его попытки сбросить с себя врага были как-то судорожны, — на мгновения они вообще прекращались и становились с каждым разом все слабее. В возмущении Ашенбах готовился уже кинуться на помощь, когда победитель оставил, наконец свою жертву. Тадцио, бледный, как полотно выпрямился наполовину, и несколько минут сидел неподвижно, опершись на руку, со спутанными волосами и помутневшим взглядом. Потом встал и медленно стал удаляться. Его звали сперва громко и требовательно, потом еле внятно и умоляюще. Но он ничего не слыхал. Черный мальчик, которым овладело, наверное, тотчас же раскаяние в нехорошем поступке, догнал его и умолял его помириться. Но Тадцио движением плеча отклонил его предложение. Он шел прямо к воде. Он был босой, и на нем был его полосатый легкий костюм с красным бантом на груди.
На краю воды он остановился, склонив голову и рисуя что-то ногой на влажном песке, — потом вошел в воду, которая в самом глубоком месте не доходила ему до колен, — перешел эту полосу, медленно подвигаясь вперед, и дошел до песчаной отмели. Там опять постоял несколько мгновений, устремив взор на водную даль, и пошел по длинной и узкой ленте обнаженного дна моря. Отделенный от суши широкой полосою воды, отринутый от товарищей своим гордым порывом, он шел с развевающимися волосами по морю, навстречу стихии. И снова остановился. И неожиданно, точно повинуясь какому-то воспоминанию или импульсу, повернулся всем туловищем, не снимая руку с бедра, назад и взглянул через плечо по направлению к берегу. Там сидел человек, — сидел, как тогда, когда впервые оттуда же взгляд сумеречно-серых глаз прекрасного мальчика встретился с его взглядом. Голова его, прислоненная к спинке кресла, медленно следовала за движениями Тадцио. Потом приподнялась вдруг, точно навстречу его взгляду, и опустилась на грудь, так что глаза смотрели теперь уже снизу вверх, а черты лица приняли спокойное, обращенное внутрь выражение глубокого сна. Но ему казалось, будто бледный, прекрасный мальчик там далеко ему улыбается и кивает ему головой; будто, сняв свою руку с бедра, он зовет его куда-то с собой. И как часто и прежде он хотел встать, чтобы за ним последовать...
Прошло несколько минут, пока к бессильно опустившемуся в кресло Ашенбаху подоспели на помощь. Его отнесли в комнаты. И еще в тот же день почтительно взволнованный мир получил весть о его кончине.