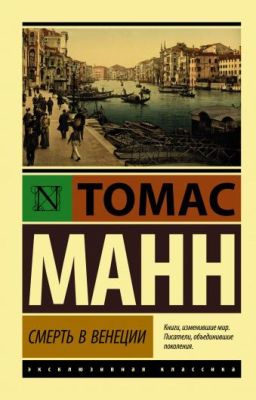Глава 3
Кое-какие дела, литературные и другие, задержали Ашенбаха в Мюнхене еще недели две после описанной нами прогулки. Наконец, он распорядился приготовить дачу к его приезду приблизительно через месяц, и в один прекрасный день в конце мая уехал с ночным поездом в Триест, где остановился всего на сутки и на следующее же утро отправился пароходом в Полу.
Он искал чего-нибудь чуждого, незнакомого, но в то же время и легко доступного, и потому остановился на одном из адриатических островов, получившем известность в последние годы, неподалеку от истрийского побережья, с населением в живописных отрепьях, говорившим на каком-то странном наречии, с красиво разорванными группами скал у просветов лазурного моря. Но дожди, душный воздух, мещанское общества австрийцев в отеле и отсутствие того непосредственно величавого общения с морем, какие может дать только мягкий, песчаный берег, досадовали его и говорили о неудачном выборе. Какое-то внутреннее томление, еще ему непонятное, не переставало его волновать, – он изучал пароходные сообщения, пытливо озирался вокруг, – и неожиданно, но в то же время как-то понятно и естественно пред ним предстала искомая цель. Если мечтаешь о чем-то чуждом, о чем-то сказочном, то куда направить свой путь? Но это ведь ясно! Что ему делать здесь? Он сделал ошибку. Туда ему нужно было ехать, только туда! И он тотчас же заявил об отъезде. Всего дней десять пробыл он на острове, как уже быстрая моторная лодка снова уносила его и его пожитки в военную гавань; там он сошел на берег лишь для того, чтобы по мосткам перейти на мокрую палубу парохода, который разводил уже пары перед уходом в Венецию.
Это было старое итальянское судно, закопченное, грязное, мрачное. В пещерообразной, искусственно освещенной рубке, куда горбатый и неопрятный матрос с назойливой предупредительностью тотчас же проводил Ашенбаха, за столом, с надвинутой на лоб шляпой и с окурком сигары в уголке рта сидел бородатый человек с лицом стародавнего циркового директора; с вежливыми ужимками он записывал имена пассажиров и выдавал билеты. "Да, в Венецию", ответил он на вопрос Ашенбаха, протянув руку и обмакнув перо в клейкий остаток чернил в косо наклоненной чернильнице. "Первого класса в Венецию! Пожалуйте, сударь". Он намарал что-то на бумаге, посыпал из песочницы голубым, тонким песком, ссыпал остаток в глиняную чашку и сложил бумагу своими желтыми, костлявыми пальцами. "Хорошее вы выбрали себе местечко", говорил он тем временем! "Ах, Венеция! Дивный город! Сколько там притягательной силы для людей образованных. И прошлое у нее так богато, да и теперь красот там немало!". Быстрота его движений и пустые разговоры, которыми он сопровождал их, производили какое-то странное, отвлекающее впечатление, как будто он опасался, что путешественник может еще поколебаться в своем решении отправиться в Венецию. Он поспешно получил деньги, с ловкостью крупье выбросил сдачу на грязную скатерть стола. "Приятного времяпрепровождению", прибавил он с чисто актерским поклоном. "Для меня большая честь вас доставить в Венецию... Пожалуйте", воскликнул он вдруг, подняв руку, как будто за Ашенбахом стояли еще желающие получить билеты... Ашенбах вернулся на палубу.
Облокотившись о перила, он стал разглядывать народ, который, ожидая отплытия судна толпился на берегу, и пассажиров на палубе. Пассажиры второго класса, мужчины и женщины, группировались на носу, пользуясь для сидения своими сундуками и узлами. На корме, в первом классе, стояла кучка молодых людей, по-видимому, приказчиков из Полы; по их повышенному, веселому настроению было видно, что они собрались прокатиться для развлечения в Италию. Они мало стеснялись окружающих, кричали, смеялись, громко обсуждали предстоящую прогулку и, перегнувшись через перила палубы, посылали остроты товарищам, которые с портфелями под мышкой шагали вдоль по набережной и грозили уехавшим тростями. Один из пассажиров в светло-песочном, летнем костюме самого модного покроя, с красным галстуком и смело отогнутыми краями панамы особенно выделялся из кучки своим веселым видом. Но едва Ашенбах вгляделся в его лицо, как со своего рода ужасом заметит, что это вовсе не юноша. Он был стар, не было ни малейшего сомнения. Вокруг глаз и рта виднелись морщины. Матовый румянец щек был румянами, каштановые волосы под панамой с яркою лентой--париком, шея вся в морщинах, подвитые усики и эспаньолка были накрашены, желтоватые, ровные зубы, которые он с такой особой охотой ежеминутно показывал, не что иное как дешевая искусственная челюсть, – а его руки, с большими кольцами на обоих указательных пальцах, были руками старика. Со странным чувством смотрел Ашенбах на него и на его веселую беседу с друзьями. Неужели не знали, не замечали они, что он стар, что он не имеет уже права носить свой франтовской, яркий костюм, что не имеет он права разыгрывать из себя равного им! Но просто и привычно, казалось, они терпели его в своей среде, относились к нему как к равному и без всякого пренебрежения отвечали на его задорные выходки. Как могло это быть? Ашенбах приложил руку ко лбу и закрыл глаза, – они болели у него, потому что сегодня ему пришлось спать очень мало. Ему казалось, будто все вокруг как-то необычно, будто начинается какое-то странное отчуждение, которое он еще может предотвратить, если закроет ненадолго глаза и потом снова оглянется по сторонам. В это мгновение, однако, он слегка зашатался и, с каким-то страхом открыв глаза, заметил, что тяжелый и мрачный корпус судна медленно отделяется от каменной набережной. Постепенно, вершок за вершком от еще неравномерного хода машины увеличивалась полоска грязной воды между набережной и пароходом, и, наконец, после продолжительного маневрирования судно направилось к выходу в открытое море. Ашенбах отправился на корму, где горбатый матрос поставил для него удобное кресло и тотчас же вслед за ним появился официант в засаленном фраке, ожидавший его приказаний.
Небо было серое, ветер сырой, влажный. Гавань и острова остались позади, и в туманной дымке горизонта быстро терялись очертания берегов. Пропитанные влагой хлопья угольной копоти падали на палубу, которая все время не просыхала. А уже через час стали натягивать парусину, — начало дождить.
Закутавшись в пальто, с книгой в руках путник устроился довольно удобно. Часы летели незаметно. Дождь, наконец перестал. Парусину сняли. Горизонт прояснился. Под угрюмым куполом неба расстилался огромный диск пустынного моря. В пустом, ничем нерасчлененном пространстве у нас утрачивается также и сознание времени. Мы как бы погружаемся в безотчетную дремоту. Призрачно странные фигуры проходили в воображении Ашенбаха: старый франт, бородач из капитанской рубки, — они что-то говорили, странно жестикулировали, – он заснул.
К обеду его пригласили в длинную столовую, напоминавшую коридор. Сюда выходили двери всех кают. На конце большого стола он увидел компанию приказчиков вместе с франтоватым стариком; они уже с десяти часов пировали здесь с энергичным капитаном. Обед подали скудный; он постарался проглотить его поскорее. Его тянуло на воздух, хотелось посмотреть на небо: быть может, перед Венецией оно прояснится.
Он был уверен, что иначе быть не может: всегда этот город встречал его радостным блеском. Однако, и небо и море оставались мрачными, свинцовыми, – время от времени принимался моросить мелкий, мелкий дождь. Он успокоился на мысли, что теперь, подъезжая к Венеции с моря, он естественно и должен увидеть ее иною, чем обычно, со стороны суши. Он стоял у фок-мачты, устремив глаза в даль и ожидая берега. Он думал о мечтательно пылком поэте, для которого когда-то из этих вод возвысились купола и башни его затаенной фантазии, он повторял про себя многое из той ритмической песни, которая сложилась тогда из благоговения, счастья и тихой печали. Воодушевленный этими думами, он стал потом испытывать свое строгое, утомленное сердце, может ли быть ему уготовлено новое вдохновение, новый экстаз, новое, хотя бы и позднее трепетание чувства.
Но вот справа всплыл вдруг плоский берег. Поверхность моря оживилась рыбацкими лодками; показался остров с венецианскими курортами, – пароход свернул влево, замедленным ходом прошел через узкие ворота и остановился на лагуне, перед кучкой убогих пестрых домишек, в ожидании лодки санитарного надзора.
Прошел целый час, пока она подъехала. Странное чувство: в сущности, ведь уже приехали, а на самом деле далеко еще нет. Торопиться было нечего, – тем не менее всеми владело какое-то нетерпение. Молодые приказчики, патриотически настроенные сигналами военного рожка, доносившимися на пароход из далекого парка, столпились на палубе и, воодушевленные этим, разражались громкими кликами в честь маршировавших на берегу солдат. Было положительно противно смотреть, до какого состояния довела старого франта его дружба с молодежью. Его одряхлевший мозг не мог оказать того сопротивления алкоголю, как мозг его товарищей, и он был вдребезги пьян. С помутневшим взглядом, с папиросой в дрожащих пальцах он топтался, шатаясь во все стороны, на одном месте, тщетно стараясь сохранить равновесие. Так как при первом же шаге он бы непременно свалился, то он и не решался сойти с места, – но все же не утратил своей жалкой задорности, хватал всех проходивших за полы, бормотал что-то, насвистывал, хихикал, грозил кому-то своим морщинистым пальцем с большим кольцом и с отвратительнейшей двусмысленностью то и дело кончиком языка облизывал уголки рта. Ашенбах посмотрел на него исподлобья, и снова его охватило странное чувство, будто мир обнаруживает какое-то неуловимое, но все же непреоборимое стремление принять причудливый, искаженный до уродливости облик: но снова этому чувству помешал неожиданно возобновившийся стук машины; – пароход продолжал свое, столь близко от цели прерванное плавание по каналу св. Марка.
И снова увидал Ашенбах эту изумительнейшую гавань, эту блестящую композицию фантастической архитектуры, которую республика являла благоговейным взглядам мореплавателей: легкое великолепие дворца, Мост Вздохов и колонны со львами и святыми на берегу, ослепительный фронтон храма, вид на ворота и исполинские часы. Смотря на все это, он думал, что подъезжать к Венеции с суши, по железной дороге все равно, что входить во дворец с заднего хода, и что к этому необыкновеннейшему из городов нужно приближаться только пароходом, только по морю.
Машина застопорила, вокруг парохода засуетились гондолы, спустили трап, и на палубу поднялись таможенные чиновники; можно было сходить. Ашенбах сказал, чтобы ему дали гондолу, которая отвезла бы его и его багаж на пристань тех маленьких пароходиков, которые поддерживают сообщение между городом и Лидо, – он решил поселиться у моря. Его тотчас же поняли и что-то закричали вниз с палубы гондольерам, которые ругались между собой на своеобразном диалекте. Но ему мешают еще спуститься, – сейчас с большими трудностями волокут вниз по трапу его большой чемодан. И он на несколько минут лишен возможности уклониться от назойливости отвратительного старика, которого опьянение заставляет во что бы то ни стало разговориться на прощание с незнакомцем. "Желаем вам приятного времяпрепровождения, -- бормочет он. -- Будьте здоровы, не поминайте лихом! Au revoir, excusez и bonjour [До свидания, извините и добрый день -- франц.] -- Ваше превосходительство!" -- Из губ его брызжет слюна, он щурит глаза, облизывает уголки рта, и накрашенная эспаньолка на подбородке лезет куда-то вперед. – "Наше почтение, – заикается он, и вкладывая пальцы ко рту, – наше почтение милому спутнику... милейшему спутнику"... Неожиданно фальшивая верхняя челюсть падает у него на нижнюю. Но Ашенбах уже может уйти. – "Милому, милому спутничку"... – слышит он все еще за спиной пьяное, невнятное бормотание, в то время как скользя рукой по веревочным перилам, спускается вниз по трапу.
Кто способен не испытать мимолетного трепета, затаенного испуга и странного смущения, впервые или после долгого перерыва входя в венецианскую гондолу? Причудливое судно, неприкосновенно сохранившееся с незапамятных времен, такое поразительно черное, каким бывают только гробы, – оно навевает мысли о беззвучных, преступных авантюрах во тьме южной ночи, но еще больше мысли о смерти, о похоронах, о мрачной процессии, о последнем, немом, долгом пути. А заметили ли вы, что сидение в такой гондоле, это гробово-черное, лакированное сидение – самое мягкое, самое пышное и самое удобное ложе во всем мире? Ашенбах обратил на это внимание, когда уселся у ног гондольера напротив своего багажа, который был аккуратно сложен у клюва гондолы. Гребцы все еще ругались между собой, – громко и грубо, непонятно, с резкой, угрожающей жестикуляцией. Но особая, своеобразная тишина водяного города мягко впитывала их голоса, лишала их неприятной резкости, рассеивала по водной поверхности. В гавани было жарко. Разморенный слегка дуновением сирокко и мягкими подушками в гондоле, путешественник закрыл глаза, наслаждаясь какой-то особой непривычной и сладостной ленью. Ехать недалеко, думалось ему; как хорошо бы плыть до бесконечности... Легко покачиваясь в лодке, он чувствовал, как удаляется от тесноты гавани, от шума и крика.
Вокруг него все становилось тише и тише. Не было слышно ничего, кроме всплеска весел и глухого прибоя волн о клюв гондолы, который круто, черно и на конце на подобие меча вздымался из воды, – и еще было слышно: разговор, шепот, – бормотание гондольера, который говорил что-то про себя, сквозь зубы, невнятно, беззвучно, как бы заглушаемый тяжелой работой своих рук. Ашенбах поднял глаза и с легким изумлением заметил, что лагуна вокруг становится все шире и шире и что лодка стремится навстречу открытому морю. Ему нельзя было, значит, предаваться покою, он должен был узнать, в чем же дело.
– К пароходной пристани, – сказал он вполоборота к гондольеру. Шепот умолк. Но ответа не последовало.
– К пароходной пристани, – повторил он, совсем обернувшись и взглянув в лицо гондольера, который, стоя позади него на небольшом возвышении, ярко вырисовывался на бледном небе. То был человек с неприятным, грубым лицом, одетый в морской синий костюм, опоясанный желтым шарфом, в бесформенной соломенной шляпе, начинавшей кое-где уже рваться и насаженной с каким-то особенно наглым видом набекрень. Лицо его, белокурые, пышные усы под коротким вздернутым носом говорили о тем, что он не итальянец. Будучи на вид довольно тщедушным, так что его никак нельзя было бы признать с первого взгляда за гондольера, он умело и энергично вел лодку, гребя не только усилиями рук, но и всего тела. Несколько раз он от напряжения разжимал даже губы и обнажал свои белые зубы. Сдвинув рыжеватые брови, он скользнул взглядом по путешественнику и ответил ему уверенным, почти грубым тоном:
– Мы едем в Лидо.
Ашенбах нахмурился.
– Может быть. Но я взял гондолу для того только, чтобы переехать к Св. Марку. Я хочу отправиться пароходиком.
– На пароходике вы поехать не можете.
– Почему же нет?
– Потому что на пароходике багажа не возят.
Он был прав. Ашенбах только сейчас это вспомнил. Он молчал. Но грубый, заносчивый, столь редкий по отношению к иностранцам тон гондольера выводил его из себя. Он заметил:
– Это уж дело мое! Может быть, я хотел отдать свой багаж на хранение? Будьте добры повернуть!
Ответа не было. Весла шуршали, вода глухо плескалась о борт. Бормотание и шепот начались снова. Гондольер говорил с собою самим, цедя бессвязно сквозь зубы.
Что делать? Один на один в море с странно невежливым, неприятно решительным человеком, – путешественник не видел перед собой никакой возможности осуществить свою волю. Но зато как приятно может он сейчас отдыхать, если откажется от протеста! Разве не хотелось ему, чтобы поездка длилась долго, до бесконечности? Самое лучшее было махнуть на все рукой, да и самое приятное, пожалуй. Какая-то сладостная лень исходила, казалось, от этого низкого, мягкого сидения, нежно убаюкиваемого равномерными взмахами весел упрямого гондольера за спиной. Мысль о том, что он мог попасть в руки преступника только мимолетно скользнула в голове Ашенбаха и не могла даже побудить его на активный протест. А возможность, что все дело тут только в наживе, казалась почти неприятной. Но какой-то смутный долг или гордость заставили его все-таки снова заговорить. Он спросил:
– Сколько же вы хотите за поездку?
Смотря как-то мимо него, гондольер ответил:
– Вы уж заплатите!
Было ясно, что нужно ответить. Ашенбах проговорил механически:
– Я вам ничего не заплачу, раз вы везете меня не туда, куда я желаю.
– Вам нужно на Лидо.
– Но не с вами.
– Я повезу вас хорошо.
"Это правда", – подумал Ашенбах и как-то сразу устал. "Это правда, ты везешь меня превосходно. Превосходно даже и в том случае если ты соблазнился моими вещами и сзади ударом весла отошлешь меня прямо к праотцам".
Но ничего подобного не случилось. У них оказались даже спутники--гондола с музыкальными оборванцами, мужчинами и женщинами; они пели под аккомпанемент мандолины и гитары, назойливо не отставали от лодки Ашенбаха и наполняли тишину водного пространства своей продажной, чуждой поэзией. Ашенбах бросил им денег в протянутую шляпу. Они замолчали и отъехали. Снова послышался шепот гондольера, который обрывисто, бессвязно говорил сам с собой.
Наконец, они добрались. По берегу взад и вперед, заложив руки за спину и устремив взгляд на лагуну, шагали два муниципальных чиновника. Ашенбах вышел из гондолы, поддерживаемый одним из тех стариков, которых можно видеть на всех пристанях в Венеции. У него не оказалось в кармане мелочи, и он отправился в расположенный неподалеку от набережной отель, чтобы там разменять деньги и рассчитаться с гондольером. Выйдя из отеля, он идет обратно, видит багаж свой на берегу на маленькой тачке, — но ни гондолы, ни гондольера нет нигде.
– Он исчез, – заметил старик. – Это дурной человек, ваша светлость, у него нет разрешения на езду. Он единственный, у кого нет разрешения. Другие телефонировали уже сюда. Он заметил, что его тут поджидают. И вот поспешил скорее убраться.
Ашенбах пожал плечами.
– Ваша светлость проехались даром, – сказал старик и протянул шляпу. Ашенбах бросил монету. Распорядился доставить багаж в отель и пошел вслед за тележкой по аллее, по белой цветущей аллее, которая со своими бесчисленными тавернами, базарами и пансионами по обеим сторонам, тянется поперек всего острова прямо к морю.
В громадный отель он зашел сзади, с садовой террасы и через большой вестибюль направился в контору. Так как он заранее предупредил о приезде, то был встречен с предупредительной любезностью, Портье, маленький, неслышный, льстиво вежливый человечек с черными усами, в длинном сюртуке французского покроя, проводил его в лифте во второй этаж и показал комнату, уютную, уставленную мебелью из вишневого дерева; в ней стояло много красивых цветов с сильным ароматом; высокие окна выходили прямо на море. Когда портье удалился, Ашенбах подошел к окну: пока вносили и размещали в комнате его вещи, он разглядывал пустой в это время дня пляж и море, неосвещенное сейчас солнцем; был как раз прилив, и низкие, растянутые в волны спокойным, равномерным темпом катились одна за другою на берег.
Наблюдения и переживания человека, одинокого и замкнутого, всегда в одно и то же время и расплывчатее и навязчивее, чем думы и чувства человека, привыкшего к обществу, к людям; мысли тяжелее, своеобразнее и всегда подернуты легкой дымкой печали. Образы и восприятия, которые обычно просто отгоняются взглядом, усмешкой, обменом мнений, занимают его с чрезмерною тягостью, сами становятся глубже и значительнее в молчании, превращаются в переживания, волнения, чувства. Одиночество выявляет оригинальное, смело и странно прекрасное, фантастическое. Но в то же время порождает и противоположное, несоразмерное, абсурдное, невозможное. Душу Ашенбаха все еще волновали переживания его путешествия, отвратительный старый франт с его пьяным бормотанием, странный гондольер, скрывшийся без денег. Не останавливая на себе, не обременяя рассудка, не давая, в сущности, никакой пищи раздумию, эти переживания были все же чрезвычайно оригинальны, казалось ему, – они волновали его именно этой своей противоречивостью. Но тем временем он приветствовал своим взглядом море и испытывал радость, что Венеция в такой доступной близи от него... Наконец, он обернулся, обмыл лицо, дал несколько распоряжений горничной, желая устроиться как можно удобнее, и в сопровождении боя в зеленой куртке спустился в лифте в нижний этаж.
Он выпил чаю на террасе у моря, сошел затем вниз и прошелся по набережной довольно большое расстояние по направлению к отелю Эксцельсиор. Вернувшись, он решил, что время уже переодеться к ужину. Он делал это, как всегда очень размеренно и медленно, – он привык работать за одеванием, – и тем не менее, спустившись вниз в вестибюль, увидел, что еще рано: большая часть обитателей отеля сидела еще здесь, – чуждых друг другу, как-то подчеркнуто безучастных, но единодушно ожидавших еды. Ашенбах взял со стола газету, опустился в большое кожаное кресло и стал разглядывать общество, которое на первый взгляд приятно отличалось от его соседей в его последний приезд сюда.
Перед ним открылся вдруг широкий, много вмещающий в себя горизонт. Глухо смешивались звуки разных мировых языков. Безразличный Фрак, мундир хорошего тона, внешне сплачивал все разновидности человечества в одну благопристойную единицу. Тут было сухопарое, длинное лицо американца, многочисленная русская семья, английские леди, немецкие дети с боннами-француженками. Преобладала славянская раса. Подле него слышался польский язык.
Вокруг стола собралась кучка детей и подростков под присмотром воспитательницы или, может быть, компаньонки: три молоденьких девушки, лет пятнадцати, шестнадцати, и мальчик с длинными кудрями, на взгляд, лет четырнадцати. С изумлением заметил вдруг Ашенбах, что мальчик поразительно, совершенно красив. Его лицо, бледное и нежное, обрамленное волосами цвета свежего меда, с прямым, правильным носом, прелестным ртом и выражением невинной и божественной серьезности, напоминало греческие изваяния благороднейшей эпохи эллинского искусства; при чистейшем совершенстве формы в нем было еще такое индивидуальное обаяние, что смотрящему на него казалось, будто нигде, ни в природе, ни в искусстве он до сих пор не встречал ничего подобного. Потом сразу бросался почему-то в глаза резкий и, по-видимому, принципиальный контраст в педагогических точках зрения, согласно которым были одеты и сами держались эти сестры и их единственный брат. Туалет трех девушек, из которых старшая могла считаться уже взрослой, был чуть ли не до безобразия прост и целомудренен. Одинаковые, монастырские платья, серо-аспидного цвета, полудлинные, простые и намеренно неизящные фасоном, с белыми отложными воротниками, единственными их украшениями, – досадовали взгляд и подавляли всякую возможность остановиться с любопытством на одной из этих трех фигурок. Гладко и туго зачесанные на затылок волосы придавали лицам монашески пустое и ничего не говорящее выражение. Не возникало даже сомнений, что все это дело рук матери, – но эта же самая мать ни в чем не применяла к мальчику той педагогической строгости, которая казалась ей такой необходимой по отношению к дочерям. Мягкость, нежность и грация во всем окружали, казалось, его со всех сторон. К его прекрасным волосам боялись прикоснуться ножницами; они вились вокруг лба, спускались на уши и закрывали даже затылок и шею. Английский матросский костюм, широкие рукава которого суживались книзу и плотно облегали изящные кисти его еще детских, но узких рук, придавал своими шнурками, застежками и вышивкой его грациозной фигуре какой-то богатый и избалованный вид. Он сидел вполоборота к Ашенбаху, слегка вытянув ноги в черных лакированных туфлях, облокотившись на ручки соломенного кресла и опираясь одной щекой на руку; в этой позе его, лениво-небрежной, не было и следа той почти неприятной чопорности, к какой были приучены, по-видимому, его сестры. Быть может, он больной? Ведь действительно кожа на его лице была бела, как слоновая кость, по сравнению с темным золотом локонов. Или, быть может, он был попросту избалованным любимчиком, объектом пристрастной и капризной любви? Ашенбах был склонен подумать последнее. Почти всякой художественной натуре свойственно примиряться с несправедливостью, когда она творит собой красоту, и сочувствовать всякому, даже пристрастному выдвиганию последней.
Появился лакей и по-английски доложил, что ужин готов. Общество стало выходить постепенно через большую стеклянную дверь в столовую. Из вестибюля, со стороны лифта, показалось несколько запоздавших. В столовой начали уже подавать, но молодые поляки продолжали сидеть все еще вокруг соломенного столика. Ашенбах тоже не уходил еще, удобно усевшись в кожаном кресле и наслаждаясь красотой мальчика.
Гувернантка, маленькая, плотная дама с красным лицом, подала, наконец, знак вставать. Высоко подняв брови, она отодвинула стул и поклонилась, когда в комнату вошла высокая дама, в светло-сером платье и жемчугах. Она держалась слегка холодно и надменно, – прическа ее слегка напудренных волос и фасон платья говорили о той простоте, которая свидетельствует о большом вкусе всюду, где набожность считается неотъемлемой составной частью аристократизма. Она могла быть, например, женой какого-нибудь важного немецкого чиновника. Фантастически роскошное ее облику придавали только ее драгоценности, действительно великолепные и большой ценности: серьги и тройная очень длинная цепь из крупных жемчужин, отливавших спокойным матовым блеском.
Дети поспешно поднялись. Нагнулись к руке матери, которая взглянула на них легкой улыбкой своего холеного, но все же немного утомленного лица с несколько обострившимися чертами, и сказала что-то по-французски гувернантке. Потом направилась к стеклянной двери. Дети последовали за ней: девочки в порядке старшинства, за ними гувернантка, а затем уже мальчик. У порога он почему-то обернулся, и так как в вестибюле больше никого не было, то его необыкновенные, сумеречно-серые глаза встретились с взглядом Ашенбаха, который, опустив голову на колени и погрузившись в раздумие, провожал глазами заинтересовавшую его семью.
В том, что он видел, не было ровно ничего, что могло бы обратить его внимание. Дети не пошли к столу до прихода матери, ждали ее, почтительно с ней поздоровались и при входе в залу соблюдали самые обыкновенные формы хороших манер. Тем не менее все это производило такое подчеркнутое впечатление, говорило о такой дисциплине, о таком воспитании, что Ашенбах почувствовал какое-то странное волнение. Несколько мгновений он выждал еще, потом отправился тоже в столовую и велел показать себе свой столик, который оказался очень далеко от стола польской семьи, – это вызвало в нем мимолетное чувство разочарования.
Усталый и все же душевно возбужденный, он раздумывал во время бесконечного ужина о самых абстрактных, даже трансцедентальных материях, размышлял о таинственной связи, в которую должно вступать закономерное с индивидуальным для того, чтобы возникла человеческая красота, – отсюда перешел к общим вопросам формы и искусства и в конце концов невольно пришел к тому заключению, что его мысли и выводы напоминают некоторые, на первый взгляд удачные внушения сновидений, которые при трезвом рассмотрении оказываются затем совершенно беспочвенными и никуда негодными. После ужина он с сигарой в зубах сидел и гулял в парке, обвеянном ночной прохладой, рано отправился к себе в комнату и заснул крепким сном, полным, однако, живых, причудливых образов.
На следующий день погода была все такая же. Под серым, облачным небом море расстилалось как-то особенно молчаливо и плоско, словно слившись с близким горизонтом и настолько уйдя от берегов, что повсюду виднелись большие, данные песочные мели. Когда Ашенбах отворил окно, ему показалось, что к нему доносится гнилой запах лагуны.
Им овладело мрачное настроение. Он стал подумывать уже об отъезде. Однажды, много лет назад, после веселых и теплых весенних дней его застала здесь такая же погода и настолько повредила его здоровью, что он принужден был чуть ли не бежать из Венеции. И разве не чувствует он опять такое же почти лихорадочное волнение, тяжесть в висках, тяжесть в вехах. Но менять еще раз местопребывание, это слишком уж скучно и обременительно; однако, если ветер не переменится, он здесь оставаться не может. На всякий случай он распаковал не все свои вещи. В девять часов он позавтракал в специально приспособленной для этого буфетной, между вестибюлем и столовой.
В зале царила торжественная тишина, которой так любят гордиться все большие отели. Прислуживавшие лакеи ходили в башмаках без каблуков, на мягких подошвах. По временам слышался только случайный звон чашек, да отдельные слова, сказанные вполшепота. В углу напротив, через два стола от него Ашенбах заметил польских девушек с гувернанткой. Вытянувшись, с прилизанными вновь, пепельно-белокурыми волосами и слегка покрасневшими глазами, в накрахмаленных голубых полотняных платьицах с белыми отложными воротниками и манжетами они сидели за столом и передавали друг другу вазочку с варением. Завтракать они, кажется, кончили. Мальчика не было.
Ашенбах улыбнулся. "Ну, маленький баловень!" – подумал он про себя. – "Ты, по-видимому, пользуешься перед другими еще и той привилегией, что можешь спать, сколько заблагорассудится". Он позавтракал не спеша, взял из рук портье, который, сняв фуражку, вошел в залу, несколько пересланных ему сюда писем и закурил папиросу. Поэтому его застал еще там приход маленького ленивца, которого ожидали за противоположным столиком.
Он вошел в стеклянную дверь и прошел через всю залу, направляясь к сестрам. Его походка, манера держать туловище, движения колен и ног, обутых в белые лайковые башмаки, – все было полно необыкновенной грации, легко, изящно, гордо и еще более красиво благодаря заметному и чисто детскому смущению, с которым он дважды посреди залы оглядывался по сторонам, подымая и опуская глаза. Улыбаясь, сказав что-то на своем мягком, расплывчатом языке, он сел за стол и повернулся к Ашенбаху прямо в профиль: того снова охватило изумление, почти трепет при виде этой действительно богоподобной красоты мальчика. На нем была сегодня легкая блуза, белая с голубыми полосками, с красным шелковым бантом на груди и простым белым стоячим воротником. Но над этим воротником, который в сущности совершенно не шел к общему характеру костюма, возвышалась голова несравненной, совершенной красоты и обаяния, – голова Эроса из желтоватого паросского мрамора, с тонкими серьезными бровями и с дивною шапкой волос, которые изящными завитками закрывали виски и уши.
Прекрасно, прекрасно, – думал Ашенбах про себя, – тем холодным тоном специалиста, в который иногда облекают художники свой восторг, свое восхищение совершенным творением искусства. Он думал: Честное слово, если бы меня не ждало море и берег, я остался бы здесь, пока ты не уйдешь! -- Он вышел из залы, прошел через вестибюль, провожаемый низкими поклонами прислуги, спустился с большой террасы и направился по мосткам на берег, специально отгороженный для обитателей отеля. Там босой старик-купальщик в парусиновых штанах, матросской блузе и соломенной шляпе показал ему заранее заказанную им корзинку для сидения, — он велел поставить перед собой маленький столик и уселся поудобнее в кресло, на песке, возле самой воды.
Вид пляжа, зрелище беспечно наслаждающейся культуры у порога элементарной стихии, радовал и восхищал его, как никогда еще до сих пор. Серая и плоская поверхность моря кишмя кишела уже играющими детьми, пловцами и пестрыми фигурами, которые скрестив руки под головой возлежали на песчаных отмелях. Многие весело катались неподалеку от берега в маленьких красных и синих лодочках. Перед длинной вытянутой линией купальных будок было много народу, – тут гуляли, лежали на песке, весело разговаривали, – изящная утренняя элегантность перемешивалась здесь с наготой, которая смело наслаждалась вольностями курорта. Впереди на влажном и твердом песке гуляло несколько человек в белых купальных халатах. Справа маленькая крепость из песка, сооруженная ребятишками, была усажена кругом крохотными пестрыми флажками всех стран света. Продавцы раковин, пирожных и фруктов предлагали свои товары, стоя на одном колене и поставив на другое большой деревянный лоток. Слева перед одной из будочек, стоявших перпендикулярно к другим и как бы заканчивавшим собою пляж с этой стороны, расположилась русская семья: мужчины с бородами и рядами крупных зубов, болезненные, апатичные женщины, барышня, с возгласами отчаяния рисовавшая у большого мольберта вид на море, двое некрасивых детей, старая нянька с платком на голове, с угодливыми, льстивыми манерами. Они были довольны, наслаждались природой, то и дело останавливали шаливших детей, шутили на немногих, им знакомых словах с старой торговкой, продававшей им конфеты, что-то кричали и не обращали внимания ни на кого кругом.
Я останусь, – подумал Ашенбах. Разве где-нибудь будет лучше? Скрестив руки, он устремил взгляд вдаль в море, – он потерялся там, утонул, проломился в однотонной дымке безбрежного пространства. Он любил море по многим, для него глубоким и полным смысла причинам: любил потому, что часто жаждал покоя, как художник, который много и трудно работает и которому хочется уйти от притязательного многообразия явлений к простоте, единообразию, простору и шири; любил из запретной дли него, прямо противоречащей его работе и потому столь прельстительной склонности к цельному, нерасчлененному, безграничному, вечному, к тому, что мы называем "ничто". Сознавать близость свою к совершенству – желание каждого, кто трудится над достижением прекрасного; а разве "ничто" не есть одна из форм совершенного? – И вот когда взгляд его слился так с этим необъятным пространством, горизонтальную линию берега неожиданно перерезала чья-то фигура: он очнулся, поднял глаза, и увидел красивого мальчика, который шел слева мимо него по песку. Он был босой, ноги были обнажены до колен, он шел медленно, но так легко и гордо, словно привык ходить всегда без обуви; идя, он озирался вокруг на купальные будки. Едва, однако, заметил он русских, которые продолжали беспечно кричать и смеяться, как на лице его показалось вдруг выражение гневного негодования. Лоб омрачился, губы нервно сжались, на щеках появилась горькая складка, а брови сдвинулись с такой силой, что под давлением их глаза ушли как-то внутрь, и из них зло и мрачно сквозила наружу пылкая ненависть. Он взглянул перед собой на песок, потом опять угрожающе поднял взгляд, – полупрезрительно, полунегодующе пожал слегка плечами и оставил врагов своих в стороне.
Своего рода деликатность или смущение, что- то вроде уважения или неловкости заставило Ашенбаха отвернуться и сделать вид что он ничего не заметил: серьезному случайному свидетелю непосредственно вылившейся наружу страсти не подобает пользоваться хотя бы даже про себя своими наблюдениями. Но он был в одно и то же время и взволнован и обрадован, – больше того: он был счастлив. Этот детский фанатизм придавал и без того уже значительной по красоте своей фигуре подростка накую-то ценность, которая позволяла относиться к нему серьезнее, чем, казалось бы, допускали-то его годы.
Все еще в раздумий, Ашенбах прислушался к голосу мальчика, к звонкому, чистому, слегка слабому голосу, которым он уже издали здоровался с товарищами, занятыми сооружением крепости из песка. Ему отвечали, закричав ему несколько раз его имя или уменьшительную форму имени; с своего рода любопытством старался Ашенбах разобрать это имя, но слыхал только два мелодичных слога "Аджио". И во второй раз опять "Аджио" с протяжной гласной "о" на конце. Ему понравилось это, – благозвучие слогов гармонировало с объектом, он несколько раз повторил имя про себя и, удовлетворенный, занялся потом своими письмами и бумагами.
Положив на колени свою дорожную папку, он вынул вечное перо и принялся за корреспонденцию. Но уже через четверть часа ему стало жаль терять такой удобный случай и заниматься тем, на что время у него найдется всегда. Он отложил папку и обернулся опять к морю. А еще через минуту привлеченный юными голосами на песке, он прислонился поудобнее головой к спинке кресла: его снова потянуло наблюдать за движениями прекрасного Аджио.
Он сразу же заметил его, – трудно было не заметить его с красным бантом на груди. Стараясь вместе с другими закрепить старую доску в виде моста через заполненный водою ров крепости, он все время, что-то крича и кивая головой, отдавал распоряжения. С ним было там человек десять сверстников, мальчиков и девочек, большею частью его возраста и еще моложе, – все говорили на разных языках, на польском, французском и даже на разных балканских наречиях. Но чаще всего слышалось его имя. Несомненно было, что его все любят, уважают, боятся. Ближайшим его вассалом и другом был, по-видимому, один мальчик, тоже поляк, высокий и стройный, с черными, напомаженными волосами, в парусиновой курточке с ремнем. Закончив постройку крепости, оба друга обнявшись направились по пляжу, и высокий мальчик поцеловал Аджио.
Ашенбах едва удержался, чтобы не погрозить ему пальцем. Но потом рассмеялся, подозвал к себе продавца фруктами и купил у него крупной, спелой клубники. Стало очень тепло, хотя солнце все еще не могло пронизать гущу облаков. Какая-то лень сковывала рассудок, в то время как чувства поглощались необъятной и баюкающей тишиной морского пространства. Ашенбах думал над тем, какому имени может соответствовать подслушанное им слово, которое он принял за "Аджио". Ему было приятно стараться разрешить эту загадку. И с помощью некоторых польских воспоминаний он пришел к тому заключению, что это вероятнее всего "Тадцио", -- сокращенное имя "Тадеуш", -- или "Тадцю", если произнести на польский лад.
Тадцио купался. Ашенбах, потерявший его из глаз, сразу заметил далеко в море его голову, его руки, которыми он часто взмахивал при плавании. Море было мелкое, и мальчик заплыл далеко. Но об нем уже беспокоились, из будок раздавались встревоженные женские голоса, – они кричали опять это имя, которое точно лозунг звучало здесь на берегу и в котором благодаря его мягкому окончанию, благодаря этому протяжному "ю" было столько и сладостного и вместе с тем непосредственно-дикого; "Тадцю! Тадцю!" Он повернулся и, высоко закинув голову, побежал по воде, – вода мешала ему, и он бежал, весь покрытый прозрачною пеной. Вид этого живого существа, юношески нежного и грациозного, с влажными кудрями, прекрасного, как юное божество, выходящего из глубин моря и неба, из самой стихии, – это зрелище навевало мифологические образы, оно было, словно поэтический отблеск извечных времен, начала формы и рождения богов. С закрытыми глазами прислушался Ашенбах к отклику, который нашло в его груди это зрелище, – и снова подумал, что здесь хорошо и что он здесь останется.
Потом, отдыхая после купания, Тадцио лежал на песке, закутанный в свою белую простыню; руки у него были свободны и на правой, обнаженной руке покоилась его голова. Если Ашенбах и не смотрел на него, а погрузился в чтение своей книги, то все равно он ни на минуту не забывал, что мальчик лежит подле него и что стоит только повернуть голову немного вправо, чтобы снова увидеть того, кто возбуждал в нем такой бесконечный восторг. Ему казалось почти, что он сидит здесь именно на страже у спящего, – он занят своим делом, погружен в свои мысли, но все же он непрестанно на страже у благородного создания рода человеческого, тут вправо, вблизи от него. И отцовская нежность, горячая любовь того, кто, жертвуя собой, духом создает красоту, к тому, кто этой красотой владеет, преисполнило его сердце.
После полудня он ушел с берега, вернулся в отель и отправился наверх к себе в комнату. Там он подошел к зеркалу и долго рассматривал свои седые волосы, свое утомленное лицо с обострившимися чертами. Он подумал о своей славе, о том, что так много людей его знает и почтительно взирает на него, преклоняясь перед его сильным, прекрасным словом, – вспомнил все внешние успехи своего таланта, которые могли только прийти ему сразу на ум, не исключая даже получения дворянства. Потом отправился вниз завтракать и сел за свой столик. Когда, кончив кушать, он вошел в лифт, вслед за ним в кабинку села детвора, тоже возвращавшаяся с завтрака; среди них был и Тадцио. Он стоял совсем близко от Ашенбаха, в первый раз так близко, что тот мог видеть его уже не издали, а совсем подле себя, мог смотреть на него пристально, мог разглядеть все детали его прекрасного облика. Кто-то из товарищей обратился к нему с вопросом, и, отвечая своей неописуемо обаятельной улыбкой, Тадцио направился уже к выходу из лифта, слегка опустив глаза и смотря себе под ноги. Красота внушает стыдливость, подумал Ашенбах, – но почему он задумался над этим. Он успел мимолетно заметить, что зубы у Тадцио были не совсем безупречны: слишком заостренные и бледные, без желтоватого, здорового оттенка и как-то странно, до хрупкости прозрачные, какие бывают иногда у очень малокровных. Он слабый, болезненный, мелькнула в голове Ашенбаха. Он, вероятно, долго не проживет. И он поспешно отказался от мысли дать себе отчет в том чувстве удовлетворения или утешения, которым сопровождалось в его душе это опасение.
Почти два часа провел он в своей комнате, а затем отправился на пароходике по лагуне, издававшей сегодня какой-то особенно гнилой запах, в Венецию. Он сошел на землю у св. Марка, напился чаю на площади и пошел прогуляться по улицам. Но именно эта прогулка и повлекла за собой полнейший переворот всего его настроения, всех его планов и предположений.
На улицах было нестерпимо душно. Воздух был настолько спертый, что все запахи, шедшие из квартир, лавок и ресторанов, масляный чад, пряные ароматы духов словно застыли неподвижно, не растворяясь в атмосфере и не рассеиваясь. Даже дым от папиросы не отходил никуда и лишь очень, очень медленно таял. Теснота на узких улицах не развлекала его, и, наоборот, как-то раздражала и досадовала. Чем дольше шел он, тем мучительнее овладевало им то отвратительное состояние, которое вызывается обычно морским воздухом в соединении с сирокко и которое одновременно кажется и возбуждением и полнейшей слабостью. На теле у него выступил пот. Глаза сами собой смыкались от утомления, в груди давило, появился легкий озноб, кровь учащенно билась в висках.
Он вышел поскорее из шумных деловых улиц и, перейдя несколько мостов, очутился в уличках бедного населения. Там его окружили нищие, а гнилые испарения каналов затрудняли дыхание. На пустынной площади, одной из тех забытых и запущенных площадей, которых много в Венеции, он отер пот со лба и внезапно решил, что ему нужно уехать.
Во второй раз и теперь уже окончательно он понял, что этот город в такую погоду для него в высшей степени вреден. Упорное выжидание – представлялось бессмысленным, у него не было никаких оснований предполагать, что в близком будущем погода изменится. Надо было решать поскорее. Но возвращаться прямо домой было невозможно. На зимней квартире у него все убрано, летняя еще не готова к его приезду. Но ведь не только тут морей пляж, и в другом месте найдутся они, и уж, наверное, без этой злосчастной лагуны с ее отвратительным воздухом. Он вспомнил об одном маленьком курорте неподалеку от Триеста, который ему кто-то очень хвалил. Почему бы ему не поехать туда? II притом немедленно, чтобы имело еще смысл там опять привыкать и устраиваться. Он поднялся с края бассейна, куда присел отдохнуть, и направился в обратный путь. Дойдя до ближайшей стоянки гондол, он велел отвести себя к св. Марку. Гондольер повез его мрачным лабиринтом каналов, мимо красивых мраморных балконов, украшенных изваяниями львов, мимо покрытых плесенью стен, мимо печальных фасадов дворцов, которые теперь отражали в гнилой, зараженной воде огромные вывески магазинов. Добрались они очень нескоро, потому что гондольер, находившийся, вероятно на откупу у кружевных фабрик и хрустальных заводов, все время убеждал его посмотреть то то, то другое. И если такая поездка по Венеции и начинала минутами производить на Ашенбаха свое чарующее впечатление, то дух наживы, чисто деловой дух поверженной королевы тотчас же вновь отрезвлял и чувство и ум.
Вернувшись в отель, он еще перед обедом заявил в конторе, что непредвиденные обстоятельства вынуждают его завтра утром уехать. Ему выразили сожаление и написали счет. Он пообедал и провел теплый вечер в качалке на задней террасе за чтением газет. Перед сном он успел еще сложить весь багаж.
Спал он некрепко; его немного волновал предстоящий ранний отъезд. Когда утром он открыл окно, небо по-прежнему было облачно, но воздух как-то посвежел. Он уже начал раскаиваться. Быть может, его заявление об отъезде было чересчур поспешным, быть может, оно было просто результатом болезненного и потому ненормального состояния. Если бы он был немного терпеливее, если бы он не решал так поспешно, а попробовал бы привыкнуть к венецианскому воздуху или подождал бы перемены погоды, – то теперь вместо спешки и неприятных хлопот отъезда ему предстояло бы такое же, как вчера, утро на пляже. Но уже поздно. Теперь он должен уехать, должен хотеть того, что хотел вчера вечером. Он оделся и в восемь часов утра спустился вниз.
Когда он вошел, в зале не было еще никого. Но потом, пока он дожидался кофе, начали появляться обитатели отеля. С чашкой в руках он увидел польских девочек с гувернанткой: строгие, чопорные и по-утреннему свеженькие, с покрасневшими глазами они направились к своему столику в нише окна. Вслед за ними показался портье с фуражкой в руках и доложил, что пора ехать. Подан уже автомобиль, который отвезет его и других гостей в отель "Эксцельсиор", откуда моторная лодка отвезет их по частному каналу прямо на вокзал. – Уже поздно. Но Ашенбаху казалось, еще есть время. До отхода его поезда оставалось больше часа. Он рассердился на отельный обычай выгонять уезжающих гостей слишком рано, и заявил портье, чтобы ему не мешали завтракать. Тот нерешительно удалился, но через пять минут снова стоял перед ним. Никак невозможно задерживать дольше автомобиль. Хорошо, пусть себе едет и возьмет его вещи, раздраженно ответил Ашенбах. Он сам, когда ему будет нужно, поедет на пароходе; он просит, чтобы в отеле не беспокоились так настойчиво об его отъезде. Портье низко раскланялся. Довольный своим избавлением от назойливых приставаний, Ашенбах не торопясь кончил завтракать и велел даже лакею подать себе газету. Когда он, наконец, поднялся, времени оставалось действительно очень немного. Но как раз в это мгновение в стеклянных дверях залы показался Тадцио.
Направляясь к столику, где сидели его сестры, он прошел мимо поднявшегося Ашенбаха, скромно опустил глаза перед седым, старым господином, но тотчас же вновь поднял их со своим мягким, нежным, обаятельным взглядом. – Прощай, Тадцио, – подумал Ашенбах. Я недолго смотрел на тебя. И выразив вопреки привычке своей мысли действительно движениями губ, он добавил тихо: "Да благословит тебя Бог". – Он начал собираться, роздал чаевые, простился с маленьким, любезным управляющим во французском сюртуке и пешком, как пришел, направился из отеля в сопровождении носильщика с ручным багажом по белой цветущей аллее через весь остров к пароходной пристани. Дойдя туда, он занял место на пароходе – и начался для него тягостный путь, мучительный, полный раскаяний и сожаления.
То был знакомый путь по лагуне, мимо Св. Марка, по Большому Каналу. Ашенбах сидел на круглой скамеечке на носу, опершись о борт парохода и заслонив руками глаза. Остались позади общественные сады, в своей королевской пышности предстала Пьяцетта и снова исчезла, начались фасады дворцов, а когда канал повернул, мелькнула причудливо изогнутая Риальто. Путник смотрел, и сердце его разрывалось на части. Атмосфера города" тот самый слегка гнилостный запах моря и болота, который заставил его так внезапно бежать, – его, именно его он вдыхал сейчас глубоко, с почти болезненной грустью. Как мог он не знать, не понять, насколько он привязан ко всему этому своим сердцем? То, что утром было всего лишь легким сожалением, легким сомнением в правильности решения, то стало теперь мукою, истинным горем, душевным страданием, настолько тяжелым, что у него на глазах несколько раз навертывались слезы, – он все время повторял только себе самому, что этого он предвидеть не мог. Но особенно горестным, порой даже нестерпимо мучительным казалась ему мысль, что он никогда больше не увидит Венецию, что это прощание уже навсегда. Ведь если теперь во второй раз оказалось, что этот город действует на него вредно, если во второй раз сегодня он должен сломя голову бежать из него, значит, теперь уже Венеция будет для него навеки запретной, – он сюда уже больше никогда не сумеет приехать! Он чувствовал, что если он уедет теперь, то гордость и стыд не позволят ему никогда уже больше посетить город, из которого он дважды должен был бежать ради здоровья. И этот конфликт между душевною склонностью и физической неспособностью показался ему неожиданно таким важным, таким значительным, а его физическое поражение таким позорным, что он отказывался понимать, почему вчера так легко, без всякой серьезной борьбы он подчинился этому решению.
Тем временем пароход приближался к вокзалу. Горькое чувство и беспомощность до боли волнуют Ашенбаха. Уехать – представляется ему немыслимым, вернуться – тоже. Растерянный, измученный, он входит на вокзал. Уже очень поздно, нельзя терять ни минуты, – иначе он опоздает на поезд. Он хочет ехать и в то же время все в нем противится этому. Но время не ждет и безудержно толкает его вперед. Он торопится взять себе билет, и в сутолоке вокзала ищет служащего отеля, который должен ждать его здесь. Тот подходит и заявляет, что большой сундук уже сдан в багаж. Уже сдан? Да, сдан, – прямо в Комо. В Комо? Из торопливых, раздраженных расспросов и смущенных ответов выясняется, что уже в гостинице "Эксцельсиор" его чемодан попал вместе с вещами других пассажиров на поезд, уходивший в Комо.
Ашенбах с величайшим трудом сохранял вид, подобающий в таких случаях. На самом же деле какая-то необыкновенная радость, почти чувство избавления потрясало все его существо. Служащий кинулся в надежде задержать еще, если возможно, багаж, но, конечно, как и следовало ожидать, вернулся ни с чем. Тогда Ашенбах заявил, что без багажа он не уедет и что лучше подождет его возвращения в прежнем отеле. Тут ли еще моторная лодка? Да, да, она тут, дожидается. Служащий на беглом итальянском наречии умолил кассира принять билет обратно, – он клялся и божился, что тотчас же пошлет телеграмму, что примут немедленно все меры, чтобы вернуть как можно скорее чемодан, – и в результате, как это ни странно, Ашенбах через двадцать минут после своего прибытия на вокзал ехал уже снова по Большому Каналу обратно на Лидо.
Странное, невероятное, курьезное и вместе с тем похожее на какой-то нехороший сон, переживание: снова, сейчас же увидеть опять места, за которыми только что навеки с глубочайшею скорбью прощался! Поднимая перед собой пену, ловко лавируя меледу гондолами и пароходиками, маленькая быстроходная моторная лодочка неслась на Лидо, в то время как ее единственный пассажир под маской озабоченной досады скрывал трусливо-заносчивое волнение убежавшего из дому мальчика. Все еще, время от времени, он смеялся про себя над "неудачею", – такая редкая случайность может выпасть на долю разве только особого счастливчика. Придется, конечно, объяснять, видеть перед собой изумленные лица, – но зато потом, думал он, все будет опять хорошо, – ведь предотвратилось несчастье, исправлена тягостная ошибка... Все, что, казалось ему, он оставил позади себя, снова предстало пред ним, снова было его, – и надолго, насколько ему только захочется... Не иллюзия ли это от быстрой езды, или, быть может, действительно ветер подул неожиданно с моря?
Волны ударяли о бетонные стены узкого канала, проложенного по островам по направлению к отелю "Эксцельсиор". А там поджидал его уже автобус, который быстро доставил его в прежний отель. Маленький усатый управляющий в сюртуке французского покроя сбежал навстречу ему с лестницы.
Любезно и льстиво он выразил свое сожаление по поводу случившегося, сказал, что это чрезвычайно неприятно и для него, и для всего их отеля и услужливо поддержал решение Ашенбаха дождаться возвращения багажа в отеле. Его комната, правда, уже сдана, но есть другая, и нисколько не хуже. "Pas de chance, monsieur" [незадача, сударь --фр.], заметил проводник в лифте, поднимая его наверх. Наконец, беглец был вновь водворен в комнату, которая по обстановке и по положению почти ничем не отличалась от прежней.
Усталый, измученный суетней этого необыкновенного утра, Ашенбах, разложив вещи из своего ручного саквояжа, сел в кресло у открытого окна. Море приняло белесовато-зеленую окраску, воздух казался прозрачней и чище, пляж с будочками и лодками как-то пестрее, – но небо продолжало быть серым и облачным. Ашенбах смотрел из окна, скрестив на груди руки, – довольный, что он снова здесь, и в то же время сердясь на себя, что он такой нерешительный, что он сам не может себе дать отчет в своих желаниях. Он просидел так, наверное, час, – спокойно, без навязчивых мыслей. В полдень он увидел Тадцио, который в своем полосатом полотняном костюме с красным бантом на груди поднимался по мосткам обратно в отель. Ашенбах заметил его как-то сразу, еще не как следует всмотревшись в него, и подумал было: вот видишь, Тадцио, и ты опять здесь! Но в то же мгновение он почувствовал, что это небрежное приветствие смолкает перед истиной его сердца, — почувствовал странный подъем, радость, – и понял, что именно благодаря Тадцио разлука с Венецией была ему так тяжела.
Он сидел молча, незаметно у себя наверху и думал. Черты лица его прояснились, брови стали прямее и выше, – внимательная, любопытная улыбка появилась у него на губах. Потом поднял голову и обеими, вяло лежавшими на ручках кресла руками сделал размеренный, медленный жест, расправив обе ладони, – словно простирал руки кому-то навстречу.