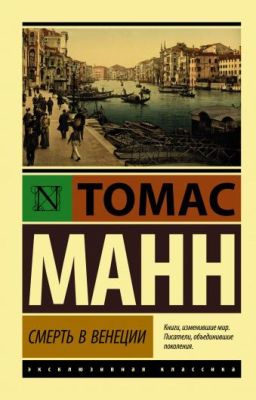Глава 2
Автор спокойной и величественной эпопеи из жизни Фридриха Прусского; терпеливый художник, с величайшим усердием соткавший пестрый и образный романический ковер "Майа", который под сенью единой идеи объединил столько различных судеб человека; создатель сильной и яркой повести "Несчастный", которая открывала перед благодарным молодым поколением возможности нравственного совершенства по ту сторону глубочайшего познавания; и, наконец, автор (этим исчерпываются все плоды расцвета его творчества) страстного и пламенного трактата "Дух и искусство", разумная сила которого и антитетическое красноречие дали возможность самым строгим ценителям поставить это произведение на один уровень с рассуждениями Шиллера о наивной и сантиментальной поэзии: – Густав Ашенбах, сын видного чиновника министерства юстиции, родился в Л., окружном городе провинции Силезии. Предки его были офицерами, судьями, администраторами; на службе у короля, у государства они вели суровую, монотонную жизнь. Внутренняя духовность их рода сконцентрировалась однажды и сплотилась в лице одного проповедника; более же быстрая, пылкая кровь влилась в жилы их лишь в прошлом поколении благодаря матери писателя, дочери одного чешского капельмейстера. Ей он был обязан также и следами чуждой расы в самой своей внешности. И сочетание служебно-трезвой добросовестности с загадочными, страстными импульсами создало художника, и художника, такого своеобразного и особенного...
Так как все существо его было сосредоточено на стремлении к славе, то благодаря определенности и индивидуальному отпечатку своего облика он очень рано созрел для общественности. Будучи еще гимназистом, он обладал уже именем. Десятью годами позже он научился управлять славой своей, сидя за письменным столом. А в сорок лет, ему утомленному терниями и шипами работы, приходилось ежедневно справляться с почтой, на которой красовались марки со всех концов света.
Одинаково далекий, как от банального, так и от всего эксцентричного, его талант был способен приковать к себе и внимание широкой публики и преданную, но зато чрезвычайно требовательную любовь избранных. На него уповали, когда он был еще юношей, и потому он никогда не знал ни праздности, ни беспечной небрежности молодости. Когда лет тридцати пяти от роду он однажды тяжело захворал в Вене, один весьма тонкий наблюдатель сказал про него: "Знаете, по-моему, Ашенбах всегда жил таким образом" – говоривший сжал пальцы своей левой руки в крепкий кулак; – "и никогда не жил так" – он разжал кулак и лениво распустил пальцы. Это было как нельзя более справедливо.
Вмешательство врачей избавило мальчика от посещения школы и заставило дать ему домашнее образование. Он вырос один, без товарищей, но всё же должен был очень рано убедиться в том, что он принадлежит к поколению, в котором редкостью является не талант, а именно физический базис, столь необходимый таланту для его полного выявления, — к поколению, которое заявляет себя в самые ранние годы и лишь очень, очень редко доносит возможности свои до зрелого возраста. Между тем его любимым лозунгом было "выдержать", – в своем романе, посвященном Фридриху, он видел только апофеоз этого лозунга, который казался ему синонимом активно-пассивной добродетели. Ему страстно хотелось дожить до старости: он всегда был уверен, что истинно велик, истинно всеобъемлющ и истинно достоин уважения лишь тот художник, которому суждено было быть характерно плодотворным на всех ступенях человеческой жизни.
Так как, таким образом, он должен был взвалить на свои нежные плечи все эти задачи, которые ставил перед ним его талант, то ему прежде всего был необходим духовный закал, – а его, к счастью, давало ему врожденное наследство с отцовской стороны. Сорока, пятидесяти лет, в возрасте, когда другие начинают уже расточать и спокойно отказываться от выполнения всех крупных планов, он начинал свой день ледяным душем и посвящал затем свои силы, собранные им во сне, искусству, просиживая два, три лучших часа за столом, освещенным парой высоких восковых свечей в серебряных канделябрах по обеим сторонам рукописи. Было вполне извинительно, – больше того: именно победой его таланта было то, что непосвященные считали мир Майи или те эпические массы, среди которых развертывалась героическая жизнь Фридриха, продуктом сосредоточенной в самой себе силы, продуктом затаённого дыхания таланта, в то время как на самом деле все это черпало величие свое из тысячи мельчайших вдохновений упорной и регулярной работы и лишь потому было так совершенно, что творец его долгие годы посвящал все упорство и крепость воли своей одному своему произведению, отдавая работе только лучшие и плодотворнейшие часы своей жизни.
Для того, чтобы значительный продукт человеческого духа способен был оказать широкое и глубокое влияние, необходимо, чтобы между личной судьбою творца его и общими путями его современников существовало тайное сродство и даже больше: гармония. Люди сами не сознают, почему они уготовляют тому или другому произведению искусства высокую славу. Они далеки тут от истины; стараясь обосновать свой восторг, они замечают тысячи разных достоинств и преимуществ, между тем как истинная причина этого восторга совсем невесома, она – просто симпатия. Ашенбах сам однажды где-то оговорился по этому поводу, что все великое возникает вообще всегда вопреки горю и муке, вопреки нищете, одиночеству, слабости, пороку, страданиям и тысяче разных преград и препон. Но то была больше чем оговорка, то был жизненный опыт, формула его жизни и его славы, ключ ко всему его творчеству. И что удивительного, если это было также нравственным обликом его своеобразных, оригинальных фигур?
О новом героическом типе, постоянно повторяющемся в самых разнообразных индивидуальных обличиях и особенно излюбленном Ашенбахом, давно уже заметил один остроумный критик: он не что иное, как "концепция интеллектуальной и юношеской мужественности, которая в горделивом стыде крепко стискивает зубы и спокойно стоит, в то время как мечи и копья насквозь пронизывают ее тело". Это было сказано красиво, остроумно и верно, хотя мысль эта слишком подчеркивает пассивный характер. Выдержка в горе и спокойствие в муках – не только простое терпение. Это уже активный подвиг, позитивный триумф, и облик Себастьяна – прекраснейший символ если не искусства вообще, то во всяком случае того искусства, о котором здесь идет речь. Вглядитесь пристальнее в этот созданный мир, вы увидите: изящное самообладание, которое до последнего момента скрывает от глаз мира внутреннее разрушение, биологическую гибель, желтую, чувственно обделенную уродливость, которая способна раздуть свой дремлющий жар в яркое пламя и даже возвыситься до господства в царстве красоты; бледную немочь, которая черпает силы свои из пламенных глубин духа, силы, нужные для того, чтобы бросить целый заносчивый и гордый народ к подножию креста и к ее стопам; лживую опасную жизнь, обессиливающую страсть и искусство рожденного лицемера, – приглядитесь ко всему этому, и в вас зародится сомнение, есть ли вообще какой-либо иной героизм, кроме героизма слабости. Но если даже это и преувеличение, то разве может быть героизм более современный, чем именно этот. Густав Ашенбах был поэтом всех тех, кто трудится на грани бессилия, истомленных, но еще влачащих существование, всех тех моралистов дела, слабых телом и скудных возможностями, которые напряжением воли и умелым управлением своего "я" хотя бы на время снискивают себе отблеск величия. Таких много, очень много, они герои века. И все они узнали себя в его творчестве, нашли в нем свое утверждение, оно их возвышало, их воспевало, – и они воспылали к нему благодарностью, они прославили его имя.
На пути своем он не раз спотыкался, делал ошибки, и словом и делом грешил иногда против такта и благоразумия. Но зато он достиг того достоинства, к которому, по его же утверждению, естественным образом стремится всякий крупный талант; больше того: можно смело сказать, что все развитие его было сознательным и упорным, опрокидывающим все преграды, сомнения и иронии восхождением к этому достоинству, к этой славе.
Живая, духовно доступная конкретность художественных образов восхищает буржуазные массы, между тем как страстная, непосредственная молодежь пленяется только загадочным: и Ашенбах был загадочен, был непосредственен, как только может быть юноша. Он отдал дань разуму, не щадил познания, раскрывал сокровенные тайны, подвергал сомнению талант, предавал святыни искусства, — и в то время как творения его воодушевляли и возвышали, он, поэт-юноша, увлекал молодую толпу своими цинизмами по поводу сомнительной ценности искусства и всякой художественности.
Но, по-видимому, ни от чего благородный и честный талант не изнашивается так быстро и так основательно, как именно от горькой и острой боли познания; и не подлежит никакому сомнению, что самая добросовестная основательность юноши ничто в сравнении с твердой решимостью зрелого художника отвергнуть познание и пройти мимо него с высоко поднятой головой, поскольку оно хотя бы в самой незначительной степени способно парализовать волю, активность, чувство и даже страсть. Что можно еще видеть в известном рассказе "Несчастный", как только вспышку гневного протеста против непристойного психологизма эпохи, воплощенного в образе того мягкого и пошлого плута, который из бессилия, из порочности и из морального убожества толкает свою жену в объятия юноши и сознательно считает себя вправе совершать гнусности. Сила слова, с которой художник обрушивается здесь на моральную низость, предвещала поворот от всякой моральной двусмысленности, от всякой симпатии к низинам жизни; то, что подготовлялось и почти завершилось уже здесь, было тем "чудом возродившейся чистоты", о котором идет речь впоследствии в одном из позднейших диалогов писателя, и на сей раз уже вполне определенно, без малейшей тени загадочности. Странное совпадение. Не было ли духовным последствием этого "возрождения", этого нового достойного и строгого облика то, что как раз в эту пору можно было констатировать почти изумительный расцвет его эстетического чувства, той благородной чистоты, простоты и спокойствия, которые с тех пор и наложили на его творения прекрасную печать истинного мастерства и классической высоты. Но разве моральная определенность по ту сторону познания, парализующего и преграждающего познания, не означает опять-таки опрощения, морального опрощения мира и души и тем самым устремления к злому, запретному, нравственно невозможному. И разве форма не двулика. Разве она в одно и то же время не нравственна и безнравственна, – нравственна как продукт и выражение внутренней дисциплины, и безнравственна, поскольку по существу своему она заключает в себе моральное безразличие и даже стремится подчинить морализм своей горделивой и неограниченной власти.
Но как бы то ни было, а не подлежит никакому сомнению, что развитие, сопровождающееся симпатией и массовым поклонением широкой общественности необходимо должно направляться иными путями, чем развитие, протекающее вне блеска и условностей славы. Только вечно цыганский характер считает банальным и издевается, когда крупный талант в конце концов становится на ноги, приобретает самосознающее достоинство и усваивает некоторое высокомерие одиночества, которое было полно тяжкой борьбы и глубоких страданий и привело в результате к власти над людьми, к почету и славе. Нечто подобное свершилось с годами и с Ашенбахом: его стиль отрешился от неожиданных смелостей, от тонких и неуловимых нюансов и приобрел образцово определенный, законченно-традиционный, формальный и даже формулистический характер. Приблизительно в эту же пору его творчества министерство народного просвещения разрешило включить избранные места из его произведений в школьные хрестоматии. Это как нельзя более соответствовало его настроению; он не отказался даже, когда один из германских монархов, только что вошедший на трон, даровал дворянство певцу "Фридриха" в день его пятидесятилетия.
После нескольких лет беспокойных скитаний он избрал, наконец, Мюнхен своим постоянным местожительством и поселился там, ведя строго размеренную буржуазную жизнь, какая редко выпадает на долю работников духа. Брак, который он еще в молодых годах заключил с одной девушкой из профессорской семьи, был разрушен неумолимой смертью после очень короткого медового месяца. У него осталась дочь, теперь замужняя. Сыновей же не было никогда.
Густав фон-Ашенбах был ниже среднего роста, брюнет с бритым лицом. Голова казалась немного несоразмерно большой по сравнению с его почти миниатюрной фигурой. Зачесанные назад волосы с просветом на затылке и с густой и сильной сединой на висках обрамляли высокий, раздвоенный и как бы рябой лоб. Дужка золотых очков со стеклами без ободков врезалась в переносицу крупного, благородного, изогнутого носа. Рот большой, иногда полураскрытый и вялый, иногда же вдруг энергичный и четкий; худые, морщинистые щеки; развитой, мягко раздвоенный подбородок. Многое и значительное пронеслось, по-видимому, над этой головой, обычно слегка склоненной на бок, но несомненным было, что именно искусство и только оно наложило тут свою физиономистическую печать, которая обычно является продуктом многосложной, и многотрудной жизни. За этим лбом родились блестящие диалоги Вольтера с королем о войне, эти глаза, утомленно и грустно глядящие сквозь стекла очков, видели перед собой кровавый ад семилетней войны. Ведь с индивидуальной точки зрения, искусство не что иное, как повышенная, учащенная жизнь. Оно богаче счастливит, но и быстрее снедает. Оно бороздит лицо служителя своего следами мнимых, созданных воображением страданий, и даже при монастырском спокойствии внешнего существования, вызывает утонченность, обостренность, утомление и любопытство нервов, все равно, как жизнь, полная самых бурных страстей, переживаний и наслаждений.