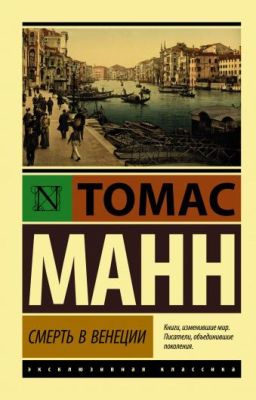Глава 1
Густав Ашенбах или фон-Ашенбах, как официально именовался он после пятидесятилетнего дня своего рождения, однажды весной 19... года, который в течение нескольких месяцев угрожал нашему континенту весьма серьезной опасностью, вышел после обеда из своей квартиры на Принцрегентенштрассе в Мюнхене и отправился в дальнюю прогулку. Утомленный тяжелой и серьезной утренней работой, требовавшей от него именно теперь наивысшей осторожности, осмотрительности, благоразумия и точности, писатель не мог все же и после обеда остановить ход творческого механизма своей души, того самого "motus animi continuus" [беспрерывное движение души -- лат.], в котором по Цицерону заключается существо красноречия, и не был в состоянии немного вздремнуть, хотя это было необходимо его значительно ослабленному организму. Поэтому-то он вскоре после чая и вышел на улицу в надежде на то, что свежий воздух и прогулка немного его подкрепят и помогут продуктивнее провести вечер.
Было начало мая; после сырой и холодной погоды наступили жаркие летние дни. В Английском саду, только что расцветившемся нежной зеленью, было душно, как в августе; вблизи к городу кишмя кишело экипажами и пешеходами. У Аумейстера, куда он прошел пустынными и тихими аллеями, Ашенбах поглядел недолго на переполненный демократической публикой ресторанный садик, вышел из парка, когда уже солнце начало склоняться к горизонту, и, чувствуя себя утомленным, стал дожидаться у Северного кладбища трамвая, который прямым путем должен был отвезти его в город.
Случайно ни у остановки трамвая, ни по близости не оказалось народа. Ни на замощенной булыжником Унгерерштрассе, рельсы которой однако вились по направлению к Швабингу, ни на Ферингском шоссе не было видно ни одного экипажа; за оградою окружающих домов, где выставленные на продажу кресты, надгробные плиты и памятники образовывали второе, еще незаселенное кладбище, не было ни души, и византийская громада противоположного храма стояла молча, залитая отблеском дня. На фронтоне, украшенном греческими крестами и пестрыми барельефами, золочеными буквами сияли симметрически расположенные надписи, — избранные изречения, посвященные потусторонней жизни. Ашенбах на несколько минут погрузился в чтение этих сокровенных слов искренне проникаясь их прозрачною мистикой, как вдруг, очнувшись от раздумья, он заметил в портике, повыше двух апокалиптических животных, сторожащих главную лестницу, человека, не совсем обычная внешность которого обратила его мысли совершенно в другую сторону.
Вышел ли он из церкви через бронзовые двери или же незаметно поднялся по лестнице, — неизвестно. Ашенбаху, который не стал долго задумываться над этим вопросом, показалось скорее первое. Среднего роста, худощавый, без бороды и усов, с тупым и плоским носом, человек этот обращал на себя внимание своими рыжими волосами и молочной, веснушчатой кожей. На первый взгляд он производил впечатление небаварца; отпечаток чего-то чуждого и далекого придавала ему кроме того широкополая и прямая соломенная шляпа. За спиной его виднелся, правда, традиционный в Баварии дорожный мешок, и одет он был в желтоватый костюм, по-видимому, из непромокаемой материи; правой рукой он держал палку с железным наконечником. Уперши ее о каменный пол, он, скрестив ноги, облокачивался на нее всем телом. Высоко подняв голову, так что на его длинной шее, поднимавшейся из мягкой спортивной рубашки, резко выступало адамово яблоко, он пристально смотрел куда-то вдаль своими бесцветными глазами с красноватыми ресницами, между которыми вырисовывались две вертикальных, глубоких морщины, довольно странно гармонировавших с его плоским, коротким носом. Быть может, впечатлению, производимому им, способствовало возвышенное и возвышающее место, на котором он стоял, — но во всяком случае во всей его фигуре было что-то властное, смелое и даже дикое. Потому ли, что он жмурился и морщился от лучей заходящего солнца, или потому, что его лицу была вообще всегда свойственна такая гримаса, — но губы его казались какими-то особенно короткими, — они как будто сходили с зубов, так что зубы, обнаженные до десен, ясно и отчетливо вырисовывались своей белизной.
Возможно, что Ашенбах, полурассеянно, полуинстинктивно разглядывая незнакомца, обратил на себя его внимание: неожиданно для себя он заметил, что тот ответил на его взгляд и при том так вызывающе, так смело, с такой очевидной решимостью довести дело до конца и заставить его отвести глаза, что Ашенбах, неприятно смущенный, действительно отвернулся и зашагал вдоль забора, решив не обращать на этого человека больше никакого внимания. В следующее мгновение он позабыл уже про него. Но подействовал ли на него вид далекого путника или тут сказалось какое-либо другое физическое или душевное влияние, — во всяком случае он испытал вдруг странное чувство, своего рода волнение, юношески пламенное стремление куда-то вдаль; и чувство это было так сильно, так ново для него, или, вернее, так давно им позабыто, что он остановился, скрестив руки за спиной, желая во что бы то ни стало отдать себе отчет в своих переживаниях.
Несомненно, что это было желание путешествовать, — ничего более. Но оно пробудилось как-то своеобразно, настойчиво, страстно, чуть ли не галлюцинаторно. Это желание стало вдруг зрячим, — его сила воображения, не пришедшая еще в состояние покоя после тяжелой утренней работы, создало перед ним образец всех чудес и ужасов многообразной земли: он ясно видел, видел перед собою ландшафт, тропическое болото под низко нависшим, душным туманом, необъятное, влажное, топкое, своего рода девственную чащу из островков, трясин и потоков, густого, клейкого ила; он видел, как из заросли папоротников, из чащи пышной и жирной, фантастически пестрой растительности вздымаются косматые пальмы, как странной формы деревья погружают корни свои в зыбкую почву, в ленивые, зеленые воды потоков, где меж плавучих цветов, молочно-белых и огромных, как блюда, стояли на мелях своеобразные птицы с бесформенными крыльями, стояли и неподвижно глядели куда-то в пространство; видел, как меж узловатых тростников бамбуковых дебрей искрятся свечки-глаза стерегущего тигра, — видел все это, и сердце его содрогалось от ужаса и безудержного, загадочного желания. Но потом вдруг видение исчезло, – и, задумчиво покачав головой, Ашенбах снова зашагал вдоль ограды.
С тех пор как он стал располагать достаточными средствами для того, чтобы пользоваться всеми благами путешествий, он смотрел на последние только как на своего рода гигиеническую меру, которую необходимо предпринимать время от времени. Слишком поглощенный задачами, которые ставили перед ним его собственное "я" и его европейская психика, слишком захваченный стремлением к непрестанному творчеству, слишком отвыкший от всякого рода развлечений для того, чтобы считаться любителем пёстрого калейдоскопа внешнего мира, он всецело довольствовался тем представлением о нашей вселенной, какое может себе составить всякий, не выходя далеко за пределы своего круга, – и потому никогда не испытывал особого искушения покинуть хотя бы даже только на время Европу. С тех пор особенно, как его жизнь стала медленно склоняться к закату, с тех пор, как его страх художника не успеть свершить всех заданий, боязнь того, что часы могут остановиться прежде, чем он сделает все, что хочет и может, с тех пор, как этот страх стало невозможно уже отгонять от себя как ненужную, досадную мысль, он ограничил свое внешнее существование исключительно прекрасным городом, ставшим для него второй родиной, и небольшой усадьбой, которую он себе устроил в горах и в которой проводил дождливое лето.
Поэтому и то, что теперь так поздно и так неожиданно всколыхнуло его, было очень быстро подавлено и приведено в обычную норму рассудком и смолоду привитым самообладанием. Он имел в виду до переезда на дачу закончить известную часть произведения, для которого теперь жил, и мысль о путешествии, которое на несколько месяцев должно оторвать его от работы, казалась ему чересчур смелой и опрокидывающей все его планы, — над ней нельзя было даже серьезно задумываться. Тем не менее он прекрасно сознавал, почему эта мысль так неожиданно всплыла в его душе. Он сознавал, что это было желание бегства, стремление в даль, к новизне, жажда свободы и забвения, -- жажда уйти от работы, от повседневности постоянного, холодного и страстного служения. Он хотя и любил свою работу, любил даже тяжелую, непрестанную борьбу своей упрямой и гордой, столь часто испытанной воли с упорно возраставшей усталостью, о которой никто не должен был знать и которая не должна была проявляться ни в чем, ни даже в малейшем признаке утомления и инертности. Но, с другой стороны, он понимал также, что нельзя слишком туго натягивать тетиву и так прямо подавлять внезапно и страстно вспыхнувшее желание. Он думал о своей работе, думал о месте, на котором он сегодня, как и вчера, должен был оставить ее и которое не подчинялось, по-видимому, ни терпеливому упорству, ни неожиданному энергичному натиску. Он снова принялся за это место, опять пытался преодолеть трудности, но скоро с чувством отвращения бросил попытку. Особенных затруднений здесь вовсе не было, но его парализовало чувство неохоты, которое проявлялось в форме ничем неутолимой неудовлетворенности. Правда, неудовлетворенность всегда казалась ему сущностью и сокровеннейшим атрибутом таланта, и именно ради неё он воспитывал и закалял свои чувства: он сознавал их склонность довольствоваться золотой серединой и неполным совершенством. Так неужели же это подавленное чувство мстило ему, отказываясь окрылять его творчество, покидая его окончательно и унося с собою всю радость, все восхищение формой и стилем. Не то, чтобы он творил неудачно: нет, единственным преимуществом его возраста было то, что он всегда, в любое мгновение сознавал ценность своего творчества. Но в то время, как общество преклонялось пред ним, сам он не находил в своей работе никакой радости, и ему казалось, что искусство его лишено тех отблесков искрящегося чувства, которые превыше всякого внутреннего содержания. Он боялся предстоящего лета в деревне, одиночества в маленьком домике со служанкой, которая готовила ему там обед, и со слугой, подававшим ему это кушанье; он боялся знакомых горных пейзажей, которые будут только способствовать его возрастающей неудовлетворенности. Необходима новизна, нужно перевернуть многое вверх дном, нужна быстрая смена впечатлений, чуждая атмосфера, приток новой крови, -- только тогда предстоящее лето может дать ему что-нибудь. Итак, в путь, — он уже решил это. Но не так далеко, вовсе не к тиграм. Нет, просто ночь в спальном вагоне, и трех- четырехнедельный отдых где-нибудь на пленительном юге...
Так думал он, когда услыхал, наконец, грохот трамвая на Унгерерштрассе, и, садясь в вагон, он твердо решил уже посвятить этот вечер изучению карты и путеводителя. На площадке ему захотелось вдруг снова увидеть человека с мешком за спиною, – этого невольного свидетеля столь значительных для него минут. Но его не оказалось нигде: ни на том месте, где он прежде стоял, ни на остановке трамвая, ни на площадке вагона...