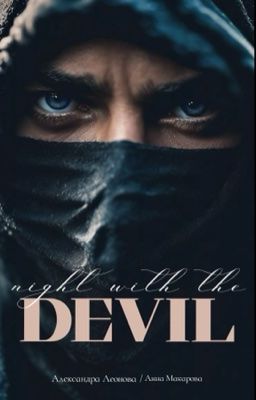Глава 15
«Где Оливия? Куда они ее дели?»...
Сознание Алекса поплыло, прокручивая в голове последние события из его жизни, напоминая о том, что за все в этой жизни придется заплатить.
Стоя на коленях на эшафоте в зале для вынесения приговоров, Алекс уже не понимал, что происходит, кто эта девушка, которую собираются казнить, так же, как его самого, и где же сама Оливия Беннет...
Перед глазами мелькнула женская фигура, прикованная к соседнему эшафоту. Худое лицо, испуганные глаза, в которых отражался предсмертный ужас. Алекс попытался что-то сказать, закричать, но горло сдавило спазмом.
«Кто эта незнакомка? Почему она здесь? И где Оливия? Неужели ее... Нет. Невозможно, что-то здесь ни так».
Вопросы без ответов роились в сознании, усиливая отчаяние. Вдруг он встретился с глазами некогда бывшего товарища, которого тоже пришлось предать из-за своей любви к Оливии. Но увидел он в его взгляде совсем ни то, что ожидал. В них читалась не презрительная насмешка, что было свойственно Хантеру, а ужас вперемешку с отчаянием и беспомощностью.
Хантер был всегда самодовольным и жестоким, но сейчас... что-то сломалось. Он выглядел так, словно сам оказался в эпицентре кошмара, из которого нет выхода. Алекс попытался найти хоть какую-то связь, намек, но увидел лишь отражение собственной растерянности в глазах Хантера.
И вдруг... в его голове промелькнула мысль о том, что, возможно, Хантер спас его Оливию, заменив одну девушку другой. Он не понимал здесь и сейчас причину его поступка, но надеялся, что его версия правдива. Он так хотел в это верить. Как еще объяснить то, что сейчас вместо Оливии на эшафоте рядом с ним стояла совершенно незнакомая девушка, которую представили, как его Оливию.
Мысли его начали вереницей кружиться в голове. Он вдруг отчетливо вспомнил, как его силой внезапно вырвали из собственного дома. Привычный свет, запах кофе и тишина в одночасье сменились захлопнувшейся дверью и холодными металлическими руками. Он кричал, пытался сопротивляться, но удары были быстрыми, точными, почти беззвучными. Мир вокруг исчез, осталась только темнота и чувство, что воздух сдавливает грудную клетку. Подземелье, куда его привезли, казалось, выточенным из самой тьмы. Коридоры были узкими, низкими, с бетонными стенами, впитавшими страх всех предыдущих пленников. Там не было света, только тусклое мерцание лампы, которая висела где-то высоко и колебалась, отбрасывая на стены искаженные тени.
Алекс сразу понял, что оказался на «краю тюрьмы», месте, куда никто не заходил без вынесенного приговора и особого распоряжения. Хантер и другие исполнители обитали ближе к северной части здания, не ступая в противоположную сторону. Исполнители, выкравшие Алекса, были ему не знакомы. Это были приемники самого главного здешнего криминального авторитета, лучшие исполнители, ставшие давно его правой рукой. Мелкие делишки и задания они уже не исполняли.
Ломать Алекса они начали тоже не сразу, ведь для них это не представляло особого интереса. Сначала в ход пошли словесные издевательства: шепот и смех, сводящие с ума в стенах камеры пыток. Началось психологическое давление. Затем — боль, которая растекалась по телу, острее ножа и холоднее суровой зимней ночи. Они знали его слабости, знали, где боль отдается сильнее всего. Алекс кричал, но крики тонули в глухой тишине подземелья. Каждое мгновение становилось пыткой: холод, удары, запах сырости, запах крови, гниль и пот — все смешалось в один мучительный хаос.
Теперь он на своей шкуре осознал и прочувствовал то, что испытывали его жертвы. Он видел большое количество пленников или, точнее, то, что от них оставалось. Их глаза — пустые, как дырки в темноте, их тела — сломанные и измученные его же руками. Алекс, сидя на их месте, понял: он тоже может стать таким. Но где-то глубоко внутри оставался маленький уголок, который шептал: «Не сдавайся».
Мучительный кашель сотрясал его тело, смешиваясь с невыносимой болью. Его мысли путались, как клубок ниток, который пытались распутать грубыми руками. Он помнил только обрывки фраз, лица палачей, и все это тонуло в тумане боли и отчаяния. Но где-то в глубине сознания тлела искра - воспоминание об Оливии. Ее лицо, ее голос, ее улыбка. Она была его якорем, единственной нитью, связывающей его с миром.
Его сознание цеплялось за эту мысль, как утопающий за соломинку. Он пытался мобилизовать остатки воли, собрать себя по кусочкам, уцепиться за любое воспоминание, которое могло дать ему силы. Перед глазами проносились картины счастливых моментов, но вскоре исчезали, растворяясь под натиском боли и страха.
Горечь предательства жгла сильнее, чем удары, сильнее любого крика, сильнее всего, что он пережил здесь. Когда о предательстве Алекса узнал главарь банды, улыбка, появившаяся на его лице, была похожа на червя, который поедает все живое. Алекс знал, что казнь неизбежна. Ему оставалось только ждать. Каждая дверь подземелья была как пасть зверя, а за ней скрывались новые пытки, все более изощренные мучения. Он слышал шаги, даже тогда, когда никто не входил; он видел тени, даже если в комнате была полная темнота.
Страх стал его постоянным спутником. Он боролся с ним, пытался сохранить рассудок, но каждая секунда отрезала часть его человечности. Он чувствовал, как страх проникает в каждую клетку, превращая тело в клей, который невозможно вырвать из груди. Он терял себя, но продолжал сопротивляться, цепляясь за малейший шанс, даже если этот шанс был почти невозможен.
Алекс понял страшную истину: настоящая тюрьма — это не стены и цепи. Настоящая тюрьма — это боль, страх и предательство, которые живут внутри. И пока эти демоны живы, нет выхода, нет света, нет спасения.
Первые дни он еще различал время. Прислушивался к звукам, к шагам в коридоре, журчанию воды где-то за стеной, тихому скрипу железных цепей. Он пытался удержаться за каждую деталь, потому что они означали, что он жив, что мир еще существует. Но со временем все начало размываться. Алекс стал ловить себя на том, что часть его как будто наблюдает со стороны, словно он — не он, а кто-то чужой, брошенный в тело, которое не слушается.
Он смотрел, как руки дрожат, как губы сами шепчут бессвязные слова, и думал:
«Это не я... Я не могу так звучать...».
Иногда он видел свое отражение в металлической панели на стене: тусклое, искривленное, он не узнавал человека, который смотрел на него. Глаза в отражении были потухшими, словно из них кто-то вычерпал весь свет. Он пытался говорить с собой вслух, чтобы убедиться, что он еще живой, что его мозг не треснул полностью. Иногда это помогало, иногда нет. В какой-то момент Алекс понял, что перестал различать, какие звуки настоящие, а какие появлялись только в его голове. Он слышал тяжелые шаги за дверью, хотя никто не приходил. Слышал сип, будто рядом кто-то дышит. Слышал плач, который становился все громче, пока он не закрывал уши руками и голос внезапно обрывался, оставляя тишину, которая только усиливала безумие.
Однажды он услышал свой собственный голос: тихий, надломленный. Этот голос произнес его имя. Это был момент, когда он замер. Если голос его, а он молчит, то кто тогда плачет? Самые страшные часы были не те, когда дверь открывалась, а те, когда дверь не открывалась. Ожидание стало пыткой. Тишина — пыткой. Каждый раз, когда темный коридор оставался пустым, Алекс чувствовал, как страх разрастается внутри, заполняя грудь настолько, что ему казалось, он не сможет вздохнуть. Он ловил себя на том, что дергается от собственного движения, от шороха одежды, от чужих шагов в соседних камерах.
Порой он думал: «Пусть уже придут... Пусть сделают что хотят... Пусть дальше измываются... Только бы не эта тишина...».
Самое тяжелое начиналось, когда Алекс думал об Оливии. Вина просачивалась в голове как вода, которая медленно, но верно заполняла пространство. Он не понимал, почему сделал это все. Он ненавидел себя за это. Но от этого не становилось легче... Каждый раз, когда он закрывал глаза, видел взгляд своей любимой блондинки — не настоящий, а придуманный, но от этого еще страшнее — полон непонимания и разочарования.
Иногда Алекс пытался оправдать себя: «Я должен был... Я обязан был выжить...».
Но в глубине души он слышал другой, более тихий и жестокий голос: «Ты выбрал себя. Ты больше не один из них. Ты не такой же, как те, кто держит тебя здесь. Ты сам по себе. Ты одинок». И этот голос был самым страшным... Потому что Алекс начинал ему верить...
В очередной раз, когда дверь открылась тихо, Алекс сначала решил, что ему просто показалось, но потом в проеме появилась тень — длинная, вытянутая, будто сама темнота решила войти в комнату вместе с человеком, который стоял на пороге. Исполнитель не говорил. Просто смотрел на Алекса, как смотрят на сломанный инструмент, который все еще можно починить или окончательно добить.
Алекс чувствовал, как пальцы на руках сами сжались. Тело не подчинялось разуму, оно реагировало быстрее мыслей. Как будто память о боли становилась сильнее, чем он сам.
— Встань, — сказал человек. Говорил он тихо, почти без интонации. От этого голос звучал страшнее любого крика.
Алекс пытался подняться, но ноги дрожали так сильно, будто он стоял на краю пропасти. Внутри все сжималось. Память о предыдущих «сеансах» всплывала волнами: боль, образы, звуки, ощущение бессилия. Хотя боль он помнил уже смутно, гораздо четче страх. Человека не интересовали его попытки мольбы. Он взял Алекса за ворот и поставил так, как ставят манекен без лишних движений, без эмоций. Сначала ничего не происходило. Само ожидание было пыткой.
Человек поставил перед Алексом маленький прибор — металлический, холодный, похожий на что-то медицинское. В нем не было цели помочь. Только причинить боль. Алекс знал этот прибор. Слишком хорошо. Он почувствовал, как внутри снова поднимается паника такая тягучая, медленная, как густой яд.
— Не сопротивляйся, — говорил человек.
Голос его оставался ровным, будто он произносил инструкции по сборке мебели и именно это ломало сильнее.
Когда прибор включался, в комнате раздавался тихий, едва уловимый звук. Не громкий, не резкий, а наоборот, мягкий, что в разы хуже. Этот звук Алекс слышал много раз, и каждый раз он означал одно, сейчас начнется «веселье». Его дыхание сбивалось... Терпеть ежедневные издевательства больше не было сил. Сердце билось слишком быстро, так быстро, что казалось, оно пытается вырваться наружу. Человек делал шаг ближе. Алекс, имея крепкое телосложение, от страха жмурился и в этот момент его накрывала не столько боль, сколько ожидание боли. Ожидание — медленное, вязкое, ужасающее. Оно просачивалось в каждую клетку, заполняя мысли, вытесняя все остальное.
Когда удар, наконец, приходил, он был резким, но гораздо слабее, чем Алекс ожидал. Телу было больно, но это была не та боль, которую он боялся и именно это сводило с ума. Человек снова делал паузу. Не длинную, но достаточно продолжительную, чтобы Алекс успел начать загонять себя в угол собственным страхом. И вновь все повторялось... Тихий звук... Пауза... Удар... Пауза... Удар...
Алекс вскоре перестал различать, что страшнее: сам удар или тишина между ними. В тишине он слышал собственное дыхание, оно было прерывистое, сбивчивое. Слышал удары сердца — гулкие, слишком громкие. Слышал, как начинает скрипеть металл под его пальцами, хотя он точно не касался ничего металлического. Ему казалось, что стены сужаются, что воздух становится тяжелее. Каждый вздох давался с трудом, будто легкие наполнялись мокрым песком.
Он ловил себя на мысли, что пытается угадать, когда будет следующий удар.
Тело дергалось заранее... Мозг пытался просчитать ритм, но человек постоянно менял паузы: чуть длиннее, чуть короче.
Он ломал предсказуемость... Ломал контроль... и в момент, когда Алекс понял, что не может больше предугадать ничего, в нем что-то трещало по швам. Он переставал понимать, сколько времени прошло. Секунды растягивались до вечности. Минуты исчезали. Сознание сжималось до тонкой линии света, которая мерцала и могла погаснуть в любую секунду. Алекс услышал собственный крик. Громкий. Сломанный.
Он уже даже не понимал, он ли это кричит, пока слова не доходили до его разума.
— Хватит... — это была не мольба. Не крик. Не приказ. Это был голый, выдохшийся остаток человека. Человек перед ним останавливался. Смотрел на него долго, оценивающе и сказал:
— Ты еще не понял. Это только начало.
У Алекса подкашивались ноги. Он не падал, его удержали, возвращая обратно, но внутри все рушилось. Боль была лишь инструментом. Главная пытка — это была его собственная психика, которую методично, холодно, без эмоций разбирали по частям.
Когда заскрежетал замок, Алекс уже не поднимал головы. Он знал этот звук. Это было не начало очередной пытки. Этот скрежет был медленным, торжественным, словно дверь открывалась не в коридор, а на смерть. Двое встали по бокам, не произнеся ни слова. Их молчание было хуже любых угроз. Алекс почувствовал, как холодные руки сомкнулись на его плечах, поднимая его почти без усилия. Тело больше не сопротивлялось. Оно просто следовало туда, куда его тащили. Коридор казался бесконечным. Каждый шаг отдавался в пустых камерах глухим эхом, будто сами стены знали, что его ведут в последний путь. Свет тусклых ламп то разгорался, то гас на миг, и этот прерывистый ритм заставлял сердце Алекса сжиматься все сильнее. Он ловил себя на том, что считает эти вспышки, будто это могло дать ему хоть какую-то опору, но мысль о том, что впереди больше ничего нет — ни боли, ни страха, ни выбора, была пугающе тихой, почти облегчением. Когда они дошли до последней двери, массивной, черной, будто вырубленной из самой тьмы, один из охранников остановился и посмотрел на него. В этом взгляде не было злобы и это пугало больше. Дверь распахнулась, холодный воздух ударил в лицо, пропитанный запахом сырости. Алекс сделал шаг вперед. Ноги дрогнули, но он не остановился. Он понял: казнь — это не конец. Конец произошел давно, там, в собственном доме, когда его заставили предать любовь, когда сломали его имя, память, голос. Сейчас он просто входил в пустоту, которая давно ждала его. Только теперь — официально.
И вот... на эшафот поднялся палач, держа в руках блестящий топор. Зловещий отблеск металла отразился в глазах Алекса, заставляя кровь стынуть в жилах. Он не пытался вырваться, закричать, он знал, что это безуспешно. Тело его будто налилось свинцом, лишаясь воли к сопротивлению. Алекс отчаянно попытался вспомнить хоть что-то, что помогло бы ему понять, где Оливия, но воспоминания ускользали, словно песок сквозь пальцы. Палач поднял топор. Алекс закрыл глаза, готовясь к неминуемой смерти.
Когда все закончилось, в зале повисла оглушающая тишина. Слишком долгая. Слишком тяжелая. Хантер стоял неподвижно. Он не дрожал, не менялся в лице, но внутри него что-то хрустнуло, впервые за долгие годы было больно. Как будто он впервые видит смерть. Он не позволил себе облегчения. Он не позволил себе жалости. Все это — позже. Если позже вообще настанет. Он лишь думал: «Теперь Оливия в безопасности. И теперь у меня есть шанс подобраться к главарю еще ближе». Впервые за все двадцать лет он ощутил, что этот путь начинает пожирать его самого.
Хантер медленно повернулся, его взгляд скользнул по лицам собравшихся. Он видел страх, облегчение и даже тайное ликование. Никто не смел взглянуть на него, все отводили взоры, словно боялись заразиться его хладнокровием, кроме одного человека, которого он сам жаждал увидеть... Он был одинок в этой толпе, одинок как никогда прежде. Цена, которую он заплатил, была непомерно высока.
Он вышел из зала, не проронив ни слова. Он не стал дожидаться казни Хлои, с него было достаточно и смерти Алекса. Его ботинки глухо стучали по каменному полу, эхо разносилось по пустым коридорам. Каждый шаг отдавался болью в сердце, напоминая о жертве, которую он принес. Он шел вперед, ведомый лишь одной целью – отомстить.
Спенсер, казалось, стоял уже вечность у тяжелой двери подвального помещения, почти не отрывая взгляда от замочной скважины, хотя знал, что там все тихо. Его задача была простой — наблюдать, охранять. Но простота задания только усиливала тревогу: чем меньше у него было действий, тем больше становилось гнетущих мыслей. Он чувствовал, как внутри нарастает едва сдерживаемое беспокойство. Казнь наверху должна была отвлечь всех, дать им шанс, но Спенсер боялся одного, что кто-нибудь сопоставит лица, вспомнит подробности, увидит, что перед ними стоит не та девушка. Тогда рухнет все: план Хантера, их уговоры, их надежда. И Оливия. Оливия особенно.
Он прислушивался к каждому звуку, к каждому шагу, гулкому эху. Ему казалось, будто тюрьма сама что-то шептала в глубине своих каменных стен, издеваясь над и так пошатанной психикой. В каждое мгновение Спенсер был готов к худшему. Ему виделось в голове, что сейчас вниз спустится охранник и потребуют осмотра камеры, или еще хуже, что прямо здесь, в этом сыром коридоре он услышит тревожный колокол о сорванной казни. От напряжения у него сводило плечи, а пальцы то и дело ложились на рукоять ножа, как на якорь. Он знал, что не имеет права демонстрировать свой страх, но внутри все дрожало от одной мысли: «Если хоть одна деталь даст сбой, то все, кто верил в этот план, окажутся обречены на смерть».
Пот пропитал ворот рубашки, неприятно холодя кожу. Спенсер перевел взгляд на пыльный угол, где паутина сплела свой нехитрый узор. Даже в этой неподвижной картине ему чудилось нечто угрожающее, словно ожидающее лишь удобного момента, чтобы наброситься. Время тянулось мучительно медленно. Каждая секунда, как капля воды, методично долбила по его нервам, разрушая остатки самообладания.
Сверху донесся приглушенный шум, крики, а затем внезапная тишина. Спенсер инстинктивно прижался спиной к стене, напрягая слух. Тишина была куда страшнее криков, в ней таилась неизвестность, а неизвестность всегда была самым опасным врагом. Он знал, что должен оставаться здесь, но ноги словно приросли к земле, скованные ужасом перед тем, что могло происходить наверху.
«Может казнь уже состоялась... Может быть и не стоит переживать?». Мысли табуном прошлись в его сознании, неизвестность пугала с каждой секундой все больше и больше, сводя с ума. А в голове то и дело всплывали вопросы: «Ну, где же Хантер? Почему так долго?».
Вечер опустился на город, окутывая его непроглядной тьмой. Хантер вышел из тюрьмы обессиленный. Холодный воздух обжигал легкие, напоминая о том, что он жив. Он по-прежнему жив, хотя частичка его умерла там, в зале.
Тюремные ворота с лязгом закрылись за его спиной, отрезая от мира. Он вдохнул полной грудью, пытаясь заполнить пустоту внутри себя чем-то, кроме горечи и усталости. Но воздух был пропитан запахом безысходности, и он лишь сильнее сдавил ему горло.
Он чувствовал, что за ним следят. Чувствовал на себе взгляды невидимых наблюдателей, спрятанных в тени деревьев и пустых троп. Он был пешкой в чужой игре, и сейчас, как никогда прежде, осознавал это. Он выполнил свою задачу, но какой ценой? Оливия в безопасности, главарь ближе, но сам Хантер все дальше от себя прежнего.
Он шел по пустынной улице, словно тень, растворяясь в сумраке ночи. Каждый шаг отдавался гулким эхом, подчеркивая его одиночество. Он больше не чувствовал себя охотником, скорее загнанным зверем, окруженным невидимыми врагами. Неожиданно он услышал звук, исходящий от телефона. На экране появилось уведомление о новом сообщении.
Хантер отметил, что номер отправителя был скрыт от исполнителя. Решительно открыв сообщение, он увидел текст на экране: «Ты сделал правильный выбор. Но ты же не думаешь, что я не в курсе, кого ты спрятал и кого собственноручно привел на смерть?».
Хантер замер, словно окаменел. Холод пробежал по спине, сковывая движения. Слова в сообщении звучали как приговор, как насмешка судьбы, играющей с ним в смертельную игру. Он судорожно огляделся, пытаясь понять, кто наблюдает за ним, кто знает о его тайне. Неужели его предали? Или это просто блеф, попытка запугать?
У Хантера похолодели руки. План удался и в то же время рухнул. Главарь знал.
И игра только началась. Паника подступала, заставляя сердце бешено колотиться в груди. Он понимал, что нельзя поддаваться эмоциям, нужно сохранять хладнокровие и действовать рационально. Но как? Как бороться с тем, кого не видишь, но кто знает о тебе все?
Решительно убрав телефон в карман, он двинулся дальше, стараясь не показывать свой страх. Теперь он знал, что за ним следят, и каждый его шаг может стать последним.
«Нужно срочно увозить из камеры Оливию».