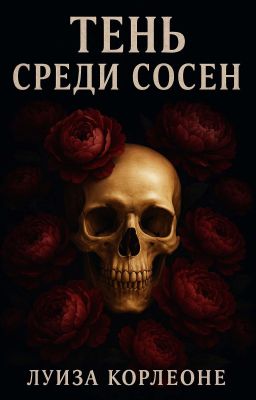Глава 39 Злость
И за той закрытой дверью
Я оставлю memories
Подожгу свою квартиру
Чтобы ее не открыть
Прыгну в тачку, в пол под 200
Чтоб не смог затормозить
Я боюсь только того
Что я смогу тебя простить
Egor Kreed DUBTSOVA
Я ворвалась в комнату, хлопнув дверью так, что стена дрогнула.
Воздух ещё дрожал от его прикосновений, а внутри всё кипело, будто кто-то залил бензин в вену и поджёг.
— Сука! — выдохнула я, даже не думая. — Чёртов, грёбаный, самовлюблённый ублюдок!
Я швырнула сумочку на пол, она ударилась о стену и глухо упала. Сапоги полетели следом.
Я села на кровать, но сразу же встала, не в силах усидеть. Всё тело тряслось от злости.
— Думает, блядь, что может распоряжаться мной, как своей игрушкой! — слова вылетали сами собой, как пули. — "Ты моя", "ты мне обязана"… Да пошёл ты, Хантер!
Я снова плюхнулась на кровать и уткнулась лицом в подушку, но только чтобы заорать в неё так громко, что даже птицы за окном, наверное, вспорхнули.
— Придурок! Мерзавец! Психопат с самомненим Бога!
Я била кулаком по подушке, по одеялу, по воздуху.
Это было даже не злость — это был взрыв.
Каждая клетка тела дрожала от того, что я не смогла дать ему по лицу, не смогла плюнуть, не смогла... просто поставить точку.
— "Повинуйся", — передразнила я, скривившись. — "Ты в долгу"… Долбаный король айсбергов!
Я вскочила снова, прошлась по комнате, как зверь в клетке.
— Да чтоб ты подавился своей властью, Хантер! Чтобы тебя твоя холодность же и сожрала!
Я смеялась и ругалась одновременно. От бессилия. От того, что он снова вывел меня туда, где я не могла быть спокойной.
— Ненавижу! — выдохнула я и упала спиной на кровать, тяжело дыша. — Ненавижу до дрожи...
Несколько секунд я просто лежала, глядя в потолок. Воздух был тяжёлый, горячий, словно комната наполнилась остаточным жаром ссоры.
Я провела рукой по лицу — пальцы дрожали.
«Нет, Изабелла, не дай ему победить», — сказала себе. — «Он хочет, чтобы ты сорвалась. Хочет, чтобы ты доказала, что всё ещё в его игре».
Я закрыла глаза. В висках всё ещё стучало.
— Да пошёл ты к чёрту, — прошептала я, уже тише. — В аду тебе будет скучно без меня, но я туда не пойду.
Я перевернулась на бок, натянула одеяло до подбородка и сжала зубы.
В груди всё ещё клокотало, но вместе со злостью внутри зарождалось другое чувство — чёткое, холодное. Решимость.
Если он хочет войны — он её получит. Только теперь я не жертва.
Я ворвалась на кухню, не замечая, что дверь хлопнула так громко, будто дом сам ответил на мою ярость. Свет лампы казался чужим, бледным, и в нём всё — кастрюли, чашки, чайник — выглядело предателем. Я схватила первую попавшуюся тарелку и бросила её о стол. Пластик лопнул, осколки разлетелись, как мелкие крики.
— Чёрт! — вырвалось у меня. Я ухватила другую тарелку и разбила её о кафель так, чтобы звук эхом ушёл в коридор. Пыль и крошки осели на ладонях, на полу, на моём платье. Руки дрожали, но я не отпускала следующую посудину — одну за другой, удар за ударом, пока мелодия ломания не стала ритмом, поддерживавшим мою ярость.
Я не думала, не планировала — только действовала. В каждом ударе была просьба: возьми это, верни мне контроль. В каждом осколке — маленькая месть за то, что оставил в моей груди он. Я кричала, но звук был не для соседей: это был внутренний выплеск, способ выпустить пар, чтобы не взорваться изнутри.
Когда руки уставали, я схватила полотенце и, не задумываясь, вцепилась в волосы так, будто хотела выдрать ту часть себя, которая почему-то отозвалась на его прикосновения. Пальцы врезались в кожу головы, и боль — реальная, живая — пронзила тело, перебив волну желания своим резким, ясным знаком. Я сжала зубы; крик сначала перерос в горький смешок, потом снова в проклятие.
— Ты думаешь, ты выиграл? — шипела я в пустую кухню, и стены будто отвечали глухо, неразборчиво. — Ты думал, что сделаешь из меня послушную? Нет. Ни черта.
Я бросила полотенце, подошла к раковине и набрала холодной воды. Облив лицо, я чувствовала, как капли стекают по шее, словно смывают частички его присутствия. Но вода не способна смыть то, что он оставил в моей душе. Она только остужала, давала немного воздуха, чтобы дальше действовать осознанно, а не в порыве.
Судорожно я начала собирать осколки. Дрожащими пальцами, но аккуратно: каждую мелочь — как доказательство, что я ещё могу привести в порядок и своё пространство, и свою жизнь. Стекло режет, но учит аккуратности. Я работала молча, позволяя гневу превратиться в холодную решимость.
— Урок? — прошептала я, собирая последние обломки чашки. — Хорошо. Урок будет. Только не от тебя.
Я прижала ладонь к раме окна, глядя на тёмнеющий лес. Там, где он стоял, было пусто; но место на душе осталось занято — не страхом, а чем-то острее: решимостью, что эту игру теперь веду я.
Я оставила осколки в пакете, вытерла руки и не стала звонить никому. Звонила не слабость — это знание: бой учится не криками, а планом. Я нашла в шкафу блокнот, ручку, и, лёжа на столе, написала коротко, ровным почерком:
«Ты хочешь повиновения. Хорошо. Я научусь играть по твоим правилам. Но ты ошибаешься, если думаешь, что это принесёт тебе победу».
Это была не клятва страха — это была декларация войны. И война начиналась сейчас.
Я стояла посреди кухни, среди осколков, дыша тяжело, будто после боя. Воздух был густой от запаха керамической пыли и злости, от горечи, которой не хватало выхода. Лампочка под потолком мигнула — как будто и она устала от моих истерик — и тень прошла по стене, длинная, искривлённая, почти человеческая.
Я усмехнулась — устало, без звука.
— Вот и ты, — сказала я тени. — Пришла посмотреть, во что я превратилась?
Ответа не было, только ветер за окном задел ветку, и она ударила по стеклу, как будто кто-то снаружи хотел напомнить: я не одна. Но я-то знала — одна. И впервые за долгое время — по-настоящему.
Я села на холодный пол, притянула колени к груди, пальцы ещё дрожали. Хотелось смеяться, но смех застрял в горле. Вместо него вырвался тихий шёпот:
— Ненавижу.
Слово прозвучало почти ласково. Оно не было угрозой, не было яростью — оно стало частью дыхания.
Ненавижу, за то, что он умеет смотреть так, будто видит насквозь.
Ненавижу, за то, что его руки помню до боли, даже когда хочу забыть.
Ненавижу, за то, что внутри этого ненавижу спрятано слишком много… любви.
Я резко встала, будто оттолкнула эту мысль. Чёрта с два я признаюсь даже себе.
Открыла холодильник, достала бутылку вина — то самое, что оставила «на случай праздника».
Праздник, да. Уничтожения нервов и остатков здравого смысла.
Откупорила зубами пробку и сделала глоток. Горькое, терпкое, как жизнь. Обожгло горло — и стало легче.
— За тебя, ублюдок, — прошептала я. — Пусть в аду тебе подадут то же самое.
Вино стекало по губам, по шее, и я не вытирала — хотелось, чтобы хоть что-то текло, чтобы хоть что-то двигалось.
Внутри стояла пустота. Не боль — именно пустота. После взрыва всегда остаётся тишина.
Телефон завибрировал на столе. Я вздрогнула — резкий звук прорезал воздух, как выстрел.
Имя на экране заставило сердце ударить больно: он.
Я стиснула зубы.
Нет.
Не сейчас.
Не снова.
Телефон замолчал, но я всё равно смотрела на экран, пока цифры времени не расплылись. Через минуту снова вибрация.
Сжала кулак.
— Хочешь поиграть? Хорошо. — Подняла трубку и сказала хрипло, без приветствия:
— Что тебе нужно?
Пауза. Только дыхание. Его дыхание. Глубокое, уверенное. Я знала этот ритм. Он молчал.
— Ах вот так? — усмехнулась я, сквозь злость, сквозь дрожь. — И молчать теперь будешь, да? Думаешь, если не скажешь ни слова, я забуду, как звучит твой голос?
Тишина. Только слабое потрескивание на линии.
— Знаешь, — прошептала я уже мягче, — ты умеешь разрушать. Но, возможно, теперь моя очередь.
Я сбросила вызов, не дождавшись ответа, и уронила телефон на стол.
Пальцы дрожали, но внутри появилось чувство контроля. Маленькое, хрупкое, но — моё.
Я подошла к зеркалу, что висело у двери, и посмотрела на себя. Лицо красное, глаза блестят, губы чуть опухли.
Разбитая, но живая.
— Вот так, — прошептала я отражению. — Привыкай к новой себе.
С кухни я перешла в спальню. Свет не включала. Луна падала на постель, серебряным пятном растекаясь по смятым простыням. Я упала на них, не раздеваясь, и в голове крутилась только одна мысль:
Он не узнает, что мне больно. Никогда.
Закрыла глаза, но сна не было. Вместо него — обрывки памяти: его взгляд, его руки, как шептал имя, когда думал, что я сплю.
Сердце сжалось.
Я перевернулась на бок, стиснула подушку, будто в ней — вся моя ярость.
— Пусть так, — сказала я в темноту. — Пусть ты выиграл сегодня. Но завтра — мой ход.
Тишина ответила, как всегда, молчанием. Но где-то глубоко внутри зажглось крошечное пламя. Оно было холодным, ровным — не боль, а намерение.
И впервые за весь вечер я почувствовала покой.
Страшный, хрупкий, но настоящий.
Комната дышала тишиной.
Той, от которой звенит в ушах, будто воздух сам не выдерживает.
Изабелла лежала на полу, глядя в потолок, не моргая.
Где-то сбоку валялись осколки вазы, на стене — следы удара, в углу перевёрнут стул.
Остатки её ярости, расплескавшейся по всему дому.
«Ты в долгу передо мной.»
Эти слова всё ещё звенели в голове, как выстрел, который не перестаёт звучать, даже когда дым уже рассеялся.
Она усмехнулась, горько, безжизненно.
В долгу.
Он бросил её, разорвал всё, что между ними было, вытравил из себя и при этом оставил долг.
Как красиво, по-хантеровски.
Пальцы дрожали.
Она подняла руку, посмотрела на неё — в мелких царапинах, с алыми полосами, но даже боль не чувствовалась.
Пусто.
Совсем пусто.
Где-то за окном ревел ветер.
Дождь стучал по стеклу, как барабан, отбивая ритм её разбитого сердца.
Она повернула голову на бок — на полу валялся телефон. Экран разбит, но всё ещё светился.
Сообщение висело на дисплее.
То самое, последнее.
“Не вздумай исчезать. Ты в долгу передо мной.”
Она тихо рассмеялась. Смех сорвался хрипом, будто выдавливаясь изнутри.
— Исчезнуть?.. — прошептала она. — Да я уже давно исчезла.
В глазах блеснул огонь — не тот, что сжигает, а тот, что остаётся от пепла.
Она медленно села, взлохматила волосы, оглядела разруху вокруг.
Бутылки, разбитые рамки, тени на стенах.
Дом дышал ею. Её злостью. Её безумием.
Она встала, как будто во всём её теле включили рубильник. Ненависть осталась, но ей на смену пришло не дрожание, а расчёт: холодный, детальный, как лезвие. Стены комнаты уже не сгущали тьму — они слушали. А она начинала говорить тише, чтобы слышать себя.
В шкафу лежал блокнот — тот, что бабушка оставила с какими-то рецептами и пометками. Она вытащила его, перелистнула страницы, пока пальцы не нашли чистый лист. Чернила были под рукой. Пишущий инструмент — простой, чёткий. Она села за стол, поставила чашку с остывшим чаем и начала.
«Долг. План», — написала она ровным шрифтом. Слова, будто тату, ложились по бумаге с необычной лёгкостью. В голове не было хаоса — только пункты, приоритеты, сроки.
1. «Собрать факты.»
2. «Найти его связи — кто его приближённые, машины, места: где он появляется, кто его окружение.»
3. «Проверить номера, сообщения, камеры вокруг дома. Камеры — ставят их как щит? Сломаем щит.»
4. «Ника и Алиса — предупредить, но не тянуть их в огонь. Ника — держать вне зоны удара. Алиса — вернуть к Хасану на время.»
5. «Сделать так, чтобы он поверил, будто я сломалась. А потом — ударить, где болит: власть, репутация, то, что он считает своей собственностью.»
Она проводила линию под каждым пунктом, ощущая, как с каждой вычеркнутой строчкой тяжелеет бок её решимости. План не был местью в её детской голове — это был инструмент. Холодный и точный.
За окном дождь усилился, и капли стучали ритмично, будто метроном. Она положила руку на стол и представила его — спокойного, уверенного, уже начавшего считать её своей. Её губы изогнулись в улыбке, совсем не детской: тёмной, безжалостной.
— Ты хотел долг, — сказала она вслух, не поднимая головы. — Отлично. Я научусь платить.