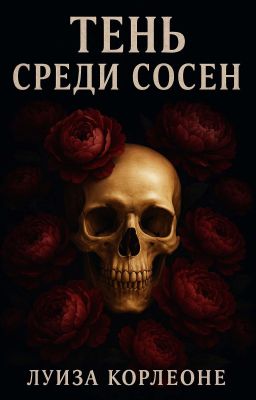Глава 30 монолог хищника
Когда я был ребёнком, я слышал голоса
Одни пели, а другие кричали
Ты должен уже понимать, тебе это говорили
Огонь гаснет, если его не подпитывать
Hozier — “Arsonist’s Lullabye”
Я наблюдал за ней через окно, и мир вдруг сузился до одного прямоугольника стекла, за которым жила она — с её тихими жестами, привычкой поправлять волосы у виска, тем, как ладони мягко обнимали книгу. Сердце начало биться быстрее, но это было не просто возбуждение; это было что‑то старое и опасное, как едва затухший пожар, который я хранил под слоем снега и не решался разжечь.
Эта девчонка пробудила то, что я тщательно прятал: желание, которое уже давно перестало быть чистым. Я не хотел признавать это даже самому себе. Признание — слабость. Признание — враг охотника.
Пионы… я подарил ей пионы не в жесте вежливости и уж точно не в порыве романтики. Я подарил их, чтобы обозначить границу. Чтобы шепнуть: «Держись дальше». Белые — потому что белое не кричит, белое не возбуждает подозрений. Белый — как маска, как отрицание. Я думал: пусть испугается. Пусть отпрянет. Пусть уберёт книгу и вернётся к своим каминам и чаю.
Она не испугалась.
И это было самое страшное. Не потому, что она «читала слишком много дарк‑романсов» — в её книжной любви я видел лишь заготовки. Нет, дело не в книгах. Дело было в другом: в её морали, в той нервной струнке нравственности, которую я ощутил с первого взгляда. Она стоит на этой струнке как на мостике, и этот мост кажется хрупким, но сильнее всего он приковывает взгляд: кто-то, кто может держать себя, кто умеет отказывать — и тем сильнее притягивает.
Понимаешь, для многих женщин я — вызов. Для Ирэн — предмет коллекции. Она вываливает себя во весь рост, словно будет покорена. Для неё мир — товар, и если его можно купить, зачем думать? Она кричит, требует, играет горячей сценой и уходит, когда надоест. Так проще.
Изабелла — другая. Она не делает жестов. Она не демонстрирует страх и не размахивает оружием. Её сопротивление тихо и ровно, как гранит. Это меня бесило и одновременно манило. Она могла бы быть идеальной добычей — сознательная, почти хладнокровная в своих слабостях.
Я смотрел, как она понюхала лепесток пионов, как губы её чуть дрогнули. У неё был взгляд человека, который знает цену спокойствию и не позволит его так просто отнять. И это — убивало мои планы на отступление: я навёл сеть, и она не испугалась; я поставил ловушку, а она шагнула прямо в неё, но не в страхе, а в любопытстве.
Где-то в глубине сидела Ника — противоположность, в которой я видел чистую, опасную заботу. Она — стена. Она — та, что отрежет все углы, натянет провода камер, поставит на учёт каждый след. Ника не верит в романтику, она верит в удар по телу и по документам. Её подход груб, лишён десяти сантиметров лирики, но он работает. Она — палач моих иллюзий и лучший щит для неё.
И я одновременно завидовал и презирал это. Завидовал потому, что Ника давала ей реальную защиту; презирал потому, что её железная логика могла разрушить то, что рождалось у меня внутри: не любовь в книжном смысле, а нечто более тёмное и требовательное — притяжение, которое не позволяет повернуть назад.
Я думал, что оторвусь и уйду. Что оставлю белые пионы как последний жест — символ отказа, знак того, что дальше дороги нет. Но увидев, что она не боится, я понял: я проиграл первый маленький поединок. И проигрывать я не умею.
В этом — яд и лекарство одновременно. Хотел бы я вскричать от злости и разорвать бумагу с её именем. Но охотник редко кричит. Он тихо точит нож и делает пометки: время, место, ритм, привычки. Я отметил: ночь, балкон, стакан Dom Pérignon, запах апельсина и табака на её шёлке. Отметил — и сохранил про запас.
Она — между двух огней: подруга, что хочет её спасти, и я — что хочет её пленить. Она и не догадывается, что перед ней два плана одновременно: железный щит и натянутая сеть. И в моём желании видеть её испуганной проснулся другой, более тёмный импульс — не оттолкнуть, а удержать.
Я не любил ждать, но теперь жёлоб терпения стал моей новой тактикой. Я улыбнулся холодно, подумав о том, как смешно все устроено: те, кто должны были отпугнуть, сделали её только любопытнее; те, кто её защищает, не видят того, что я вижу.
Я хотел быть для неё угрозой. И в тот же миг — тем, кто умеет показать, что угроза может быть спасением.
Ночь за окнами шуршала, и где‑то вдалеке тише стало. Я прижал ладонь к холодному стеклу, будто проверяя его толщину, и лёг в тень. Пусть думают, что я ушёл. Пусть думают, что мигающее поле их безопасности работает. А я — охотник — буду ждать. И научусь ждать красиво.
Я улыбнулся в темноте, но улыбка не растопила лед — она лишь добавила блеска. План складывался по нотам: маленькие движения, точные и холодные. Первый ход сделан — пион, записка, сигнал. Теперь — выжидать и смотреть, как игра идёт дальше.
Они поставили камеры — жалкое утешение для тех, кто привык прятаться за бумагами. Камеры фиксируют лицо, шаги, цифры; они не читают глаза и не слышат дыхание в пятой секции сна. Айтишник Ники — шустрый парень, колдует с проводами, привязывает оповещения и всё такое. Хорошо. Пусть думают, что сделали периметр. Пусть думают, что знают, где я нахожусь. В их спокойствии есть сладость. Я запомню это спокойствие и… нарушу его вовремя.
Иногда я представлял себя художником: мир — холст, она — линию, которую можно провести по-разному. Я люблю точность мазка. Я не хочу стихийной романтики; мне нужна архитектура момента. Поэтому всё, что я делаю, — методично. Ни капли драматизма. Ни маленьких искренних ошибок. Каждое движение — как пункт в списке, и каждый пункт имеет цель.
Но, как охотник, я тоже человек, и люди, даже те, кто привык не чувствовать, иногда срываются. Её невозмужанность — вот что заставило сердце стучать иначе. В ней — не пустота, не рваная бумага. В ней — некий порядок, острее камня. Я почувствовал уважение ещё до желания. И это усложнило всё. Сложность приятно царапает.
Я провёл рукой по колену, вспомнил её шею в лунном свете, как нежно дрогнул её подбородок, когда она пыталась не дать стону вырваться наружу. Маленькие детали. Маленькие ритуалы, которые позже станут оправданиями. Я не позволю себе быть сентиментальным. Но и игнорировать, как она входит в мою систему, уже невозможно.
На следующий день я проследил за тем, кто приходил к ней. Соседи — лица, машины, время. Ирэн кричала — слишком много звука для тонкой души. Ника — щит. Алиса — свет, что врывается всеми лучами в дом, где я хочу поставить свои метки. Все эти люди — помехи и точки взаимодействия. Я расставлял свои фигуры, как на шахматной доске: один шаг туда, другой — сюда.
Моя стратегия проста: не давать ей ни полной безопасности, ни полного покоя. Пусть ей станет ясно, что она в центре карты. Пусть её разум начнёт искать меня везде — в шагах на тропинке, в запахе ночного ветра, в случайном письме, в звуке машины у ворот. Но осторожно. Ни один резкий жест. Ни одного полицейского вызова с моим лицом в заголовке. Я играю на грани — близко, чтобы ощущалa, но не так близко, чтобы убегала в слёзы и отчаяние.
Иногда я думал о том, как объясню ей потом. Объясню ли? Возможно, никогда. Я не рассказываю охотникам о своих слабостях. Я оставляю след и смотрю, как кто-то решает: ступать дальше или отойти. Выбор — её. Я лишь обеспечиваю сценарий.
В сумке лежал маленький сувенир — не для неё, для меня: отрезок ленты, куда я незаметно привязал к стеблю пиона в её вазе. Символ, мой знак. Маленькая метка хищника, чтобы он знал: она отмечена. Пусть думают, что это просто цветы. Пусть думают, что это жест. Они не знают, что слова — это только поле боя.
Я поднялся, подошёл к окну и посмотрел на её дом. Светы горели тускло, защита работала. Она, вероятно, уже спит, а может, всё ещё на ногах, читающая, думающая, вспоминая. Я улыбнулся — тихо, почти по-доброму.
Охота не всегда жестока. Иногда она изящна, как музыка. И я позволю музыке идти своим ходом. Но ночь учит терпению. И у меня его теперь достаточно.
Я выключил свет, остался в тени и записал в блокнот: «след. ночь — 02:17. проверить окно кухни. сосед с правой стороны — уязвим. не заходить до 03:00».
И, пока город дышал своей ленивой темнотой, я закрыл глаза и представил её лицо — спокойное, собранное, странно дерзкое в своей стойкости. Это только подогревало аппетит. И я понял: игра переходит в следующий акт.