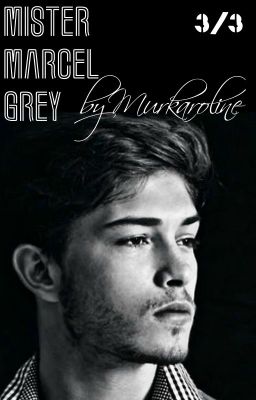light a fire
Don't shiver
Don't give up
Don't quiver
You're enough
You will be just fine
Tonight
Baby when it's cold outside
I will keep you warm
Save you from the storm
I will light a
Fire
Марсель
Второй год. Как по мне, он был хуже первого. Здесь мою боль уже притупляли не наркотики, я сам должен был оставаться наедине с ней сильным, не дать ей сломать меня.
В прошлом августе я загремел с наркотической интоксикацией. Меня нашёл отец, а первую помощь оказал Адам. Когда я узнал о том, что меня нашёл... папа - в сердце моём заныло. Что касается случившегося апогея моей наркоманской биографии - я не перебрал, нет. Я не перепутал дозу.
Как потом выяснилось, та шлюха, видимо, из-за того, что я её не отжарил, подсунула мне просроченные таблетки. Насколько я помню, мне сказали, что в сознание я не приходил три дня: мне чистили желудок, кололи сердечные и сосудистые лекарства, откачивали.
Это была обычная дорогая клиника в Италии, но я знал, что меня захотят засунуть в наркологическую.
"Блять, зачем?" - Задавался я. У меня нет зависимости. Я мог им тогда клясться и божиться чем угодно. Но кто, нахер, спрашивает у Марселя? Никто!
Через месяц после прочищения органов, анализов, попыток впихнуть в меня дерьмо вместо еды, меня накололи какой-то хернёй и отправили туда. Спасибо, сука.
На ту пору за окном начал бродить октябрь: мне ставили какие-то капельницы, чтобы восстановить дисбаланс. Я очень похудел, и меня часто тошнило прямо на пол. Чтобы помочь с количеством воды в моем организме, побороть излишнюю слабость и дискомфорт в желудке — для всего это были нужны капельницы. М-да, я принимал наркотики, но не кололся, и выглядел при этом неплохо. У меня были серьёзные перерывы. Я не зависимый. А теперь это блядское лечение делает из меня конченого наркомана, с синими от уколов руками, с синяками под глазами от бессонных ночей. Я видел настоящих людей, сдвинутых на наркотиках здесь. Я не такой, совсем, блять, нет. Из-за одной тупой шлюхи столько проблем! Страшно подумать, что терапевтическое лечение в этой клинике, завершилось только в ноябре. То есть, ещё один месяц я провёл здесь, как овощ. Наконец-то, со мной соизволил говорить мой лечащий врач.
Он сказал, что мой организм — полностью очищен от наркотических средств. Спрашивал, хочу ли я наркотиков? Блять, серьёзно? Какого хрена он ведёт себя так со мной? Я сказал, что хочу дать ему в челюсть: он рассмеялся и сказал, что мне неплохо было бы поговорить с психотерапевтом. Он точно хотел остаться без своей хуевой челюсти. Я обматерил его так, как мог, ни капли не стыдясь. Он ушёл, впустив в мою одиночную жутко белую палату какого-то старика с усами. Он улыбался мне, как будто не здоров и придирчиво рассматривал меня. Если того мне хотелось оставить без челюсти, то этого лишить глаз. Господи, хорошо, что мои родственники не спешат ко мне на приём. Или их не пускают? Наверное, я бы обматерил отца за то, что он вообще искал меня.
Усатый представился на английском. Мурато Гонелли. Итальянец. Ахуеть.
— Мистер Грей, вы можете называть меня Мурато...
— Мне поебать. Я не буду никак вас называть, потому что не собираюсь к вам обращаться. Я блять не псих! — Зарычал я.
— Почему тогда вы кричите?
— Потому что меня заебало говорить, что мне не нужна помощь. Я психически здоров, как ебаный конь.
— Вы не стесняетесь в выражениях.
— Я не манда, чтобы стесняться. И вообще, почему я должен? Я сказал вашему коллеге, что абсолютно здоров, что я больше не хочу оставаться в этой клинике. Я никогда не был зависим. Ясно? — Я стараюсь говорить как можно спокойнее, но выходит хреново.
Хитрые чёрные глаза смотрят на меня пронзительно, мне становится немного не по себе. Я люблю итальянцев: они ироничны, умны и проницательны, но в данной ситуации меня раздражает в нём всё.
— Мне ясно. Обрадую вас, в этой клинике вас больше держать не будут.
— Да? — Изумляюсь я.
— Да. Вы поедете в мою.
— Чёрт! — Шиплю. — Хватит! Я не поеду в психушку!
— Это санаторная клиника, а не психушка. У вас был стресс, иначе бы вы не стали вести такой образ жизни. Думаю, если мы поговорим с вами, вы поймёте, чего хотите дальше. — Он ненадолго прерывается, а затем начинает по-итальянски. — Что-то мне подсказывает, что вы, грубый и импульсивный на первый взгляд, внутри ранимей Мадонны. Я не собираюсь давать вам в своей клинике море ненужных советов, там другое море — Лигурийское. Я всего лишь хочу узнать вас, позволить вам узнать себя. И потом, прежде чем начинать новую жизнь, вам нужно отдохнуть от старой. Доверьтесь мне.
Я пристально смотрел на него, а потом, не знаю зачем, кивнул. Он ушёл, улыбаясь, как ребёнок, а я ещё толком не понимал, на что только сейчас согласился. По крайней мере, это было отличной возможностью убраться из этой дурацкой наркологической лечебницы с серыми решётками на окнах. Я искренне надеялся, что в той «не психушке» не будет подобного... интерьера.
Не прошло и пяти минут, как в палату зашёл лечащий меня нарколог-итальянец. Странно, что отец не утащил меня в Америку, — я впервые за всё время подумал об этом. Да, за меня приняли решение лечить меня от всего, чего возможно, но, по крайней мере, не вернули в то место, где я познал настоящую боль.
— Мне кажется, что теперь вы готовы принять родных. Вас бы хотели видеть ваши родители, дедушка с бабушкой и брат с женой, если не возражаете. Они уже неделю здесь, ждали, пока я наконец-то подпишу разрешение о приёме.
— Я не возражаю. Только можно... не всех сразу. — Нахмурился я.
— Да, конечно. — Кивнул он, после чего вышел из палаты.
Да, я готов встретиться с ними. Я скучал, чертовски скучал. Я осознал это только тогда, когда услышал такие родные слова из уст доктора. Господи, пусть мои близкие люди не напоминают мне, какое я дерьмо — мне и так это известно.
Кристиан и Анастейша, держась за руки, вошли в палату. Мои бабушка и дедушка. Они с любовью и лаской смотрели на меня. Они ничего не сказали, ни в чём меня не упрекнули, но я почувствовал себя самым большим дерьмом, которое всё ещё зачем-то живёт на этой земле.
Загвоздка в том, что когда я решил сбежать от всего, что любил, когда я хотел стать ненужным и заброшенным, скрытым от всех, это был ни в коем случае не протест. Я просто не мог чувствовать эту щемящую, неутихающую боль. Все эти люди, вся моя семья, как живое напоминание о том, что рядом со мной больше нет человека, ставшего смыслом моей жизни.
Кэтрин стала моей, едва зашла в офис. Она уже была моей, но в тот день всё подтвердилось. Она боролось за меня, ходя за мной по пятам. Она проникла во все сферы моей жизни. Даже мои родственники с ней стали другими для меня, наша любовь с ней... сплотила меня с остальными членами моей семьи. Если Леона практически разрушила связь между мной и родителями, между всем, что меня окружает, оставив мне только Дориана, то появление Кэтрин вернуло мне всё, что, как мне казалось, я потерял. Настоящую родственную связь. Я увидел в своей семье людей, которые по-настоящему готовы на многое ради того, чтобы их ближнему было хорошо. В трудные моменты, когда родители развелись, Кэтрин была со мной. Она открывала мне глаза на мою жесткость, при этом постоянно оправдывая и прощая меня. Кэт... моя. Или уже нет? Господи, я просто ублюдок: она просто не могла всё это время просто ждать меня, смотря на мои бульварные фото со шлюхами. Она уже не моя. И никогда не станет моей снова, если я не дам себе возможности поверить, что достоин её, по-настоящему достоин. Кэтрин может быть без меня счастливой, только если очень этого захочет. А вот я не могу быть без неё априори. Это самое важное, единственно-важное, что я знаю.
Кристиан и Ана долго обнимали меня: бабушка плакала, а дед хмурился. Выглядел он отнюдь не хорошо. Его речь и движения были медленнее, чем обычно. Я похолодел изнутри, когда узнал, что у него был сердечный приступ. Это случилось из-за меня. Из-за того, что он узнал, что его внук наркоманит.
— Мне очень жаль. — Прошептал я искренне. — Знаю, звучит как дерьмовое оправдание, но мне правда было тяжело. Слишком, очень тяжело. Я боялся, что сломаюсь от той боли, которая появилась с того момента, когда Кэтрин...
— Это не просто дерьмовое оправдание. Ты мог погибнуть. — Дрожащим голосом произнёс Кристиан. — Уж что-то что, а этого от своего любимого внука я не ожидал.
— Любимого? — Сглотнул я. — Я думал, любимые Дори и Крис...
— А ты самый любимый, Марсель. — Он смотрел мне в глаза. Я испугался, что могу расклеиться, как сука от этого взгляда. Мне точно надо проверить психику. — Я никогда не признавал этого тебе вслух, но это правда. Никто не заставлял меня так страдать, как ты.
— Прости. — Едва дыша, сказал я, прежде чем перевести взгляд на плачущую Ану. — Простите меня. Мне очень стыдно, правда. Я не должен был... не должен был разменивать своё время на это. Да, мне было слишком больно, но это не стоило всего того, что вы пережили.
— Особенно твой отец. — Всхлипнув, сказала Анастейша. — От Теодора одна тень. Он не мог найти себе место весь прошлый год, после разговора с тобой... а тогда, когда ты попал в больницу с интоксикацией, и вовсе потерялся... Ты знаешь, что у тебя появилась маленькая сестра?
— Сестра? — Сглотнул я. Я думал, что родился наследник...
— Да. Она... вы с ней похожи. Как мне кажется, внешне вы похожи. Лана, её зовут Лана.
— Вау. И... как папа?
— У твоего отца непростой период. Сейчас слишком много всего происходит.
— Мама с ним? С ней всё в порядке? — Тихо спросил я.
Анастейша опустила глаза на белый платочек, который держала в руках, уже чуть испачканный тушью. Кристиан прочистил горло, прежде чем произнести:
— У нас у всех непростое время. Айрин тоже очень переживала. Винила Теодора в том, что он дал тебе уехать после того разговора. Винила его за то, что наркотики чуть не убили тебя.
— Он в этом не виноват. — Едва дыша, выпалил я, поразившись самому себе. Кристиан и Ана уставились на меня. — Я был таким хамом с ним. Я вообще не знаю, как он выдержал это, я никогда не позволил бы своему сыну вести себя так со мной, даже если бы я был не прав. Отец выслушал все эти мерзости, а потом я чуть не задавил его. Он бросился за мной под колёса. Я знаю, что он нашёл меня в том доме, когда я уже был на грани смерти. Теодора нельзя обвинять в том, что случилось со мной, это бесчеловечно. Что случилось с мамой?
— Она просто боялась потерять тебя навсегда, как и все мы. Теодор признавал свою вину. — Тихо сказала Ана. — Я тоже не вижу в его действиях преступления, выражение безутешный отец — подходит ему. Он постоянно говорил с Кристианом о тебе, пытаясь найти нужные слова для мужского разговора с тобой. Теодор очень любит тебя и переживает за тебя. Мама тоже. Просто мы все были в какой-то прострации всё это время.
— И это моя вина. — Сглотнул я.
— Сейчас не время винить себя. Ты должен двигаться дальше, несмотря на то, что происходило в твоей жизни. Тебе нужно восстановиться, привести себя в порядок и вернуться в Америку. Компания ждёт тебя. Твой дом. Твоя Линда. Твоя семья. — Сказал утвердительно Кристиан. — Ты ничего этого не потерял. Нас убедили, что у тебя нет зависимости.
— И никогда не было. Я просто уже слишком затянул с самоуничтожением. — Шепчу. — Видимо, эта шлюха с просроченными таблетками и была нужна для того, чтобы я понял, что сделал, чтобы понял, что с каждым днём я погружаюсь на дно, ухожу всё дальше и дальше от нормальной и цивилизованной жизни.
— Да, ты ужасно выглядишь. — Сказал Кристиан с улыбкой.
— Кристиан! — Воскликнула бабушка.
Я рассмеялся. Впервые за всё это огромное количество потерянного времени я смеялся не обкуренным или истеричным смехом, а настоящим и искренним.
— Ну, а что? Оброс, худой, щетина уже, практически, борода...
— Дед, я тебя понял! Я верну себе божеский вид, как только пойму себя самого... Меня теперь отправляют в другую клинику, чтобы подлечить нервы, но я планирую съеба... — Я увидел расширившиеся зрачки бабушки, и прервал сам себя, заставив деда смеяться. — В смысле, сбежать оттуда через недельку-другую.
— Мы знаем всё о клинике. Тебе не нужно оттуда сбегать, пока тебе не скажут, что ты можешь выписываться. Я уверен в главвраче больше, чем в себе. — Сказал тихо Кристиан.
Вау. Значит, он слишком уверен. Больше, чем слишком.
— И пожалуйста, следи за выражениями. Я понимаю, что ты привык разговаривать с теми подранками на языке мата, но доктора уже деликатно намекнули мне о твоей разговорной речи. Почему мы с бабушкой должны за тебя краснеть перед ними?
Блять.
— Я просто был зол. Меня суют из клиники в клинику. Я нормальный, а они делают из меня чёрте что.
— Не заводись, всё в порядке. — Кристиан обнял меня, а затем уступил Анастейше.
Я удерживал подолгу своих родных людей в объятиях. Я поражался своему деду, тому, как он держался и как снисходительно вёл себя со мной: его мать была наркоманкой, и из-за этого, она не могла быть ему матерью...
Дедушка с бабушкой сказали, что мне поможет найти себя клиника Гонелли.
То есть, я только что говорил, мягко сказать - не учтиво, - с хозяином той самой санаторной психушки? Обалдеть!
Блять, как я ахуенно крут, а самое главное - везуч.
Следующими в палату зашли родители.
Вдвоём они держали внушительную дистанцию друг от друга. Мама покрасила волосы в тёмный цвет: этого я не ожидал, но смотрелось неплохо. Она очень похудела. Теодор резко сдал. Черты его лица заострились, под глазами пролегли небольшие впадины, седина запестрела вдоль висков... однако их потухшие глаза зажглись, когда они встретились со мной взглядами.
Мама обняла меня первая, буквально кинувшись ко мне. Она плакала у меня на груди минут двадцать, а я просто обнимал её. Отец стоял у двери и смотрел на меня. Когда мама меня отпустила, я почувствовал, что спина и шея у меня немного затекли, сел на постели.
Подошёл папа и протянул мне руку. Я пожал её, а затем крепко его обнял, удивив нас обоих.
— Как ты себя чувствуешь? — Вытирая слёзы, спросила мама, сев рядом со мной. Отец уместился на стуле и испытующе разглядывал меня.
— Уже... уже лучше. Намного лучше.
Я прочистил горло, борясь с комком. Сегодня слишком много чувств. Слишком больно видеть их вместе, рядом со мной. Видеть родителей рядом с непутёвым сыном. Хороших родителей.
— Как вы? Нормально? - Я надеялся на это.
— Да. - Кивнула мама.
— Да. - Чуть позже, вполголоса ответил отец.
Что-то было пиздец не так. Я уже смирился с мыслью, что мать постоянно прощает отца, но сейчас мне так и хотелось спросить: что он опять выкинул? Или это так и не угасшая злость на него за моё падение, в котором только моя вина?
— Что нового? — Спросил я.
— Твой отец, как всегда, оплошал и мне кажется, что слишком рано сообщил Кэтрин о том, что с тобой случилось. Она сказала, что сегодня приедет сюда, чтобы навестить тебя...
Блять! Волна паники накрыла меня. Я не готов, нет, я не готов к этому.
— Скажите, что меня здесь нет. Сейчас мы не можем увидеться. Она не должна видеть меня таким! — Запротестовал я, чувствуя внутреннюю дрожь.
Я и так испытал в тот день очень много невероятных эмоций — впервые за такой долгий период отсутствия каких-либо чувств! Моё сердце просто не выдержит, я не смогу этого перенести. Я не готов ни морально, ни физически видеть её. Наша встреча в это время невозможна. Я готов свести это к чему угодно: моему не самому блестящему внешнему виду, отсутствию кого-либо подведения итогов, выводов, подробного анализа моих поступков и прочей херни, но я не могу сейчас увидеть её.
Я просто поперхнусь кислородом от чувств, если увижу её. У меня от одного представления нашей встречи по коже бегут мурашки. А вдруг она увидит меня и поймёт, что пришла в последний раз сейчас? А вдруг она уже это поняла? Почему бы и нет? Она услышала, что Марсель проводил свой последней год в шайке наркоманов, проматывал деньги на лёгкие допинги, да ещё и плюс факты, которые она и так видела — мои фотографии в компании всяких краль. Как сейчас бы я объяснял это ей?
«Знаешь, Кэт, я так злился, что ты улыбаешься без меня. Я злился, что вижу тебя добившейся всего - без меня, -сексуальной красоткой, блистающей на подиуме. Я злился, когда видел тебя на обложке журналов в компании всяких полуголых геев. (Я надеюсь, что геев). Злился, когда обнаруживал фотки с крутых закрытых модных тусовок, где вокруг тебя одни, блять, хуи. Мне хотелось, чтобы ты видела, что я такой же крутой и независимый, что рядом со мной может быть любая шлюха, которую я захочу. Но проблема в том, что я никого не хотел. Ты ушла, забрав моё сердце вместе с моей потенцией!»
Блять! Нет. Звучит это всё хуёвее, чем можно себе представить. Я никогда не умел придумывать объяснения тому, что делал. Я просто делал. Да, бывало, что потом я переживал, жалел и расплачивался за это, но никогда я не анализировал свои поступки. Чёрт! Почему с Кэт всё так сложно?!
Так, спокойно, вдох-выдох. Сейчас я закрою глаза и увижу её. Хотя бы потому, что она по-прежнему самое важное в моей жизни. Хотя бы потому, что она решила приехать ко мне сегодня, несмотря на всё, что услышала обо мне, несмотря на те дешевые попытки выглядеть состоявшимся и свободным без неё.
Я увижу её, потому что она решила ворваться ко мне, хоть на мгновение, на один-единственный разговор, но вернуться в мою жизнь вновь. Суметь быть тем самым глотком свежего воздуха в моей затхлой и пустой жизни.
Она знает о том, какой образ жизни я вёл, и всё равно, в тот самый первый день, когда посещения были разрешены, она рвалась ко мне.
Да, меня до сих пор не покидает мысль, что тогда она хотела прийти, чтобы сказать мне четыре убийственных слова: «между нами всё кончено».
Я уже тогда знал, что успею это услышать, но чтобы захотеть жить, мне нужна надежда.
«Поэтому, Кэт, ты не увидишь меня. Такого, каким можешь раздавить... на этот раз — навсегда».
Тем временем Айрин Грей раздражённо продолжала:
— Теодор просто занят, как и всегда, чтобы меня услышать. Он сотворил тебе сестрёнку с новой матерью, так что, не обессудь... — Я не узнавал маму.
Озлобленность брала над ней верх. Я никогда не слышал, чтобы она говорила о папе с такой неприязнью. Это поражало меня, равно, как и отсутствие деликатного подхода отца к ней:
— Твоя мать, Марсель, просто нашла тебе нового отца, который буквально раздолбил ей все мозги.
Я ахуевал. Я только и делал, что открывал и закрывал рот. Помню, точно помню, я хотел тогда что-то сказать, но предо мной разворачивалось настоящее шоу, на котором я меньше всего ожидал быть центральным гостем. Это какой-то розыгрыш, однозначно. Где мои ключи от нового автомобиля? Я понимаю, что это только начало, но я уже насмотрелся, правда.
— Прекрати немедленно, Теодор! Мы договаривались не нагружать Марселя этим сейчас. — Слава Богу. Где этот договор?
— Ты первая начала нести сущий бред, так что не вини меня в том, что упадёшь в грязь в глазах сына теперь ты. — Бля-я-ять, Теодора понесло. Всё, мой выход.
— Стоп! — Произнёс я жёстко и поднял руку в воздух, обращая внимание на себя. — Ты — мне отец, а ты — мать. И никаких у меня других нет, никогда не было и не будет. А теперь объясните всё по порядку. Вы не вместе?
— Мы были, но теперь нет. — Сказала Айрин.
— Потому что твоя мать сделала вас с Кэтрин сводными братом и сестрой. — Теодор произнёс это без всякого намёка на улыбку, но я буквально чувствовал, что могу сейчас запросто залиться истерическим смехом.
Я закрыл лицо руками, после чего проскользнул по нему пальцами, надавливая и стараясь вытащить из-под кожи моё недвижимое уже на протяжении нескольких минут шоковое выражение. Блять.
Что я только что услышал?!
Что, блять?
Я медленно моргал, смотря то на разъярённого отца, то на красное и смущённое лицо матери. Нет, нет. Нет. У меня таких галлюцинаций даже от марихуаны не было. Это что-то из ряда вон. Это могло произойти, но не сейчас и не здесь, не с моими родителями.
Наверное, я до сих пор под кайфом, — хоть и не ловлю его, — или попал в потустороннюю вселенную, в мир апокалипсиса. Это пиздец, какое дерьмо. Реальное грёбаное дерьмо.
Дерьмо потому, что даже я ничего не понимаю.
Что вообще происходит?
— Мама... Ты и Гленн? — Я пытаюсь заглянуть ей в глаза. То, как она упрямо их отводила, только доказывало мне, что это... — Что, правда?.. Чёрт подери, сколько я спал?!
— Достаточно, чтобы твоя мать...
— Замолчи, Теодор! Я хочу всё объяснить тебе, Марсель. — Она смотрит мне в глаза. — Никакие вы с Кэтрин не брат и сестра, у нас не узаконенные отношения и мы не собираемся... Я даже не думала, что у нас с Гленном всё может дойти до...
— До секса. Твой сын тоже не думал, что ты будешь спать с отцом его девушки. — Теодор кипел ядом, кожа его была бледна.
— Отец...
— Теодор!
— Что, блять? Неприятно? Мне тоже неприятно слушать эту хуйню о том, как вам здорово вместе обсасывать меня и лицемерить перед Кейт. А о Кэтрин вы подумали? Она, наверняка, тоже ничего не знает? Да если бы я не зашёл случайно в ту грёбаную комнату, может, я бы тоже ничего не узнал! — Теодор в бешенстве скрипел зубами. Затем он сам осадил себя, махнув рукой, и отошёл к приоткрытому окну.
Я понимал его, как никто другой. Он не ожидал. Я тоже был подорван тем, что не ожидал от Леоны такого подвоха, а она взяла и, просто-напросто, растоптала меня. Я не могу сейчас занимать сторону отца, потому что он был первым, кто предал мать и оставил её в тяжелой ситуации. Но и маму я не могу поддерживать. Не потому, что это мужская солидарность, даже не потому, что я, правда, понимаю отца, и мне искренне жаль его, а потому, что я тоже поражён этим, никак не меньше.
Я бы хотел услышать мамины объяснения, но понимаю, что этот год и так достаточно укоротил жизнь Теодору: на его лице морщины, в волосах седина, — всё это немое свидетельство того, насколько он опустошён и несчастен. Мне, на удивление самому себе, впервые хотелось верить, что у него с Кейт всё хорошо. Я надеялся, что она сделала над собой усилие и простила его предательство, пусть даже ради дочери, — потому что я не хотел бы видеть своего отца одиноким, особенно сейчас, когда мама, вроде бы, обрела своё счастье.
Да, я помню, что хотел для мамы других отношений: более спокойных и стабильных, более подходящих её возрастной категории — состоявшихся и взрослых, но в глубине души я и вообразить не мог, что она решилась бы на такое, быть с кем-то другим. Она так убеждала меня в том, что Теодор — единственный из мужчин, кого она, когда бы то ни было, любила, что я не мог не верить в это. Но, видимо, действительно — любила. Именно в прошлом времени. По упавшим плечам Теодора и его вогнутой спине читалась боль. И я поражался тому, как он крепился.
Я вдруг задумался о том, как он держался, чтобы не встать на край пропасти?.. И понял, практически сразу осознал: его, моего отца, не интересовала собственная боль в это время.
Его не заботило самоедство, или методы борьбы с помощью какой-либо расслабляющей гадости. Его всё это время интересовал я. Он был тем, кто искал меня, несмотря на то, что я старался заметать следы. Я платил журналистам, чтобы они не писали под фотографиями названия баров, которые я посещал. Или хуже — с помощью денег вынуждал писать другие наименования.
Мои тёмные дружки-наркоманы помогали мне превращать каждое второе казино или клуб в накропритон, чтобы сбить охранников, то и дело садящихся мне на хвост. Парни лихо работали, но и я не лыком шит: я не хотел быть найденным.
Для меня это было настоящим приключением, в то время как над людьми, которые меня любили, висело грозовой тучей. Теодор искал, не прекращал ни одного месяца.
Он забил на свою боль, решив отвлечься от неё не химическими элементами, а помощью ближнему. Чуть позже я узнал, что у моих родных, весь тот год, случались непредвиденные проблемы.
Вместо того, чтобы быть нужным своей семье, я творил всякую хуйню, пытаясь отвлечься от воспоминаний и мыслей о расставании с Кэтрин, от мыслей, которые причиняли мне невыносимую боль. Я понял, как ошибался в тот день: от боли нельзя отвлечься или избавиться. Она постоянно сидит и живёт в тебе, её надо просто нащупать. Если ты доберёшься до точки, то она вся вырвется наружу и поглотит тебя.
— Марсель. — Еле слышно начала говорить мама, когда тяжелое дыхание Теодора стало звучать тише. — Мне очень жаль, что ты узнал об этом в нашу первую встречу спустя такой большой промежуток времени... Всё-таки, мне хотелось как-то подготовить тебя, прежде чем правда открылась бы. Я не буду сейчас винить твоего отца вновь. Я сама так решила. Так будет лучше для нас обоих. Он... я очень переживала за тебя. Мне казалось, что всё, что он не делал, недостаточно. Я считала, что не ревную его к Кейтлин, или к Лане... но, видимо, в подсознании, видя его рядом с ними, мне казалось, что они воруют время у него на поиски тебя. Знаю, глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Гленн открыл мне на многое глаза, Марсель. Я устала быть жертвой. Гленн признался мне, что препятствовал вам с Кэтрин не из-за Леоны, а из-за меня... Он сожалеет о многом. О том, что мешал вам. Он готов помочь всем, чего бы ты у него не попросил. Гленн очень хороший человек. Мне с ним спокойно и надёжно. У твоего отца с Кейт всё хорошо. Они также живут в Сиэтле, и мы... С Гленном тоже. Он правда достойный человек. Не думаю, что у тебя было достаточно времени узнать его с положительной стороны, но разговор с ним мог бы, наверняка, это исправить и...
Я видел, как она мучилась, говоря мне это и оправдывая себя. Я видел, как зло усмехался Теодор, как его лицо становилось всё мрачнее и мрачнее. Поэтому прервал её:
— Мам, мне не нужно знать, насколько хорош Гленн. У меня есть ты. Есть папа. И если понадобится помощь, я обращусь к своему отцу, потому что он и только он может любить меня, как отец. И он помог мне. Я путал следы его охране. Путал следы ему, его друзьям. Они не могли найти меня, потому что я не хотел. Ты винила его во всём и этим оправдываешь свою симпатию к Гленну. Мне это неприятно, и я не знаю, как отец понял эту чушь. — Сглотнул я. После чего перевёл взгляд на отца. Он смотрел на меня: в его глазах стояли слёзы. — Папа, я люблю тебя. Спасибо тебе. Спасибо за всё, что ты сделал. За то, что не сдавался. За то, что помог и спас меня. Прости, что я так безжалостно с тобой обошёлся. Судил тебя. Игнорировал. Я за всё это поплатился. Я не хочу повторять такую ошибку с мамой, не хочу повышать голоса и обижать... Но... Мам, к предательству я отношусь одинаково. Ты предала отца. И не только его, а моё знание о тебе. Ты столько раз говорила мне, да что мне — всем, кого знала, — ты говорила, что он единственный человек для тебя. А в итоге? Что из этого следует? Никогда не надо зарекаться. Знаешь, почему твоё предательство больнее и страшнее? Потому что от тебя этого никогда не будешь ожидать. Я не считаю тебя лицемеркой. Ты просто устала. Просто... устала. Я не хочу больше возвращаться к этой теме. Мне достаточно того, что вы будете уверены в своем решении и будете счастливы каждый по-своему. А я изо всех сил постараюсь вас не разочаровать, встать на ноги и... попытаться научится дышать. Я не хочу сейчас видеть Кэт. Пожалуйста, скажите ей, что мне... не хорошо. И Дориану с Лили тоже. Пусть они... Они успокоят её. А врачам скажите, что я уже сегодня буду готов вечером ехать в клинику Гонелли.
Когда они ушли, после того, как подолгу обнимали меня, я почувствовал опустошение. Мне правда стало плохо, только на душе. Вся боль, которая копилась во мне, вылезла из груди вместе с громким стоном и начала ломать меня. Я пошёл в душ и неслышно плакал. Просто чувствовал, как капли текли из моих глаз. Я представлял Кэт, которой говорят, что моё состояние ухудшилось, и меня пробрала дрожь. Моя Кэт. Потом я так часто жалел, что не увиделся с ней в тот день. Я так часто жалел обо всём, что делал.
Я не хотел концентрироваться на боли, появившейся с полноценным и окончательным расставанием матери и отца. Всех этих чувств было так много. Чертовски много. Я не должен был так быстро приходить в себя. Гленн Рид... хуев лицемер. Надеюсь, он достаточно хорош для моей матери. Если с отцом я был жёсток, то с ним — если моей маме будет с ним плохо, — я буду беспощаден, даже несмотря на то, что он отец Кэт.
В тот же вечер я побрился, приглашённый Теодором парикмахер состриг мне лишние отросшие патлы, передал мнеодежду в чемодане. Когда я открыл, то понял: собирал его отец — всё, что было напихано туда, было чёрного и белого цвета и находилось не в самом идеальном состоянии. Чистое, но мятое. Много носок. Шарф зачем-то. В Италии.
Блять. Уровень сборки чемодана: Теодор Грей. По-другому это никак не назовёшь. Он положил мне даже презервативы. Чёрт, зачем они мне в клинике? Кого трахать? Психов? Или он не знал, что меня отправят в ещё одну лечебницу? Тогда зачем собирал чемодан? Сука, ладно. И на том ему «спасибо».
В тот же вечер я отправился в Сан-Ремо, где мне предстояло жить до самой весны. Это место было больше поэтичным, нежели похожим на клинику. Около месяца я пытался понять, что я там делаю: Гонелли нёс всякую хуйню.
Хочет блистать предо мной своими знаниями? Чёрт, может он найти кого-нибудь другого, кому будет интересна эта чушь? Именно так я и думал сначала.
Но когда я начал понимать, что в этой жизни есть что-то важнее боли и суетности, что ещё есть что-то неизменно прекрасное, мне становилось легче. Я не знаю, как это объяснить, но его замысловатые беседы о людях и творчестве разного времени начали уносить меня в какую-то потустороннюю реальность.
В свой второй месяц проживания там Гонелли разрешил мне пользоваться его бассейном и спортзалом, сказав, что мне это поможет справиться с нервозностью. Сначала я в это не верил: у меня просто улучшился аппетит, стала заново крепнуть мышечная масса. Я заметил, что снова стал нравиться себе в зеркале.
Блять, да я и так себе всегда нравился: но сейчас, с итальянским бронзовым загаром и новыми кубиками я выглядел куда лучше, чем год назад. Почему второй год казался мне трудным? Потому что меня терзала не только боль, которую я теперь мог - или, хотя бы, пытался контролировать, - но и совесть за потерянное время.
Я хотел восстановиться. И мне постоянно казалось, что всё, что я должен делать, я делаю мало, чертовски мало. И поэтому через месяц тренировок, в один из дней, я переусердствовал и чуть надорвал спину. В процедуры мне сначала был включён массаж. Делала его фигуристая дама: она была вполне ещё свежа, но возраст явно переваливал сорок. Я подумал: «ты была бы во вкусе Дориана года три назад, бабу... крошка», чем рассмешил сам себя.
Массаж она делала хорошо. Разогревала спину. Я пытался не стонать, но это было сложно. Она знаток своего дела. Массируя болевые точки, она сказала, что напряжение и зажимы на спине — это болезненная любовь. Каждое расставание маленькая смерть, которая проходит сквозь сердце и сводит лопатки. «Зажимы любви», — вот, как назвала это она. Мы с ней разговорились. Она рассказала о своей несчастной любви, я рассказал о своём. Не всё, но меня впервые за всё это время потянуло говорить. И я начал говорить с Гонелли.
В декабре он уже знал обо мне всё. Он слушал теперь больше, чем говорил и мне нравилось открываться ему. Однажды он пригласил меня на кофе в свой личный кабинет, который он уступал сыну, когда тот приезжал. Я замер, едва зашёл и увидел... портрет Кэтрин, висящий на стене. И тут я понял, что Гонелли — знал обо мне всё, что я говорил о нас с Кэт. А его сын... его сын тот блядский художник! Я не помню, какой мат выкрикнул, прежде чем покинуть кабинет. Я бил грушу в спортзале, пока костяшки не стёрлись в кровь. Зачем он скрывал это от меня?! Какого чёрта?! Эти вопросы громом гремели в моей голове, но на следующий день, когда я уже принял душ, выспался — по-настоящему выспался за столько времени, — он дал мне ответ на каждый интересующий меня вопрос.
— Да, я знал о тебе от Кэтрин, но мне хотелось самому узнать тебя. Я тебе не сказал, потому что не хотел, чтобы ты пытался соответствовать её рассказам. И могу тебя поздравить, ты даже лучше, чем она говорила.
— Лучше? — Усмехнулся я. — Лучше мне ответьте, что произошло между ней и вашим сыном?
— А в чём дело? А, портрет... Ну, подумаешь... переспали по пьяни, с кем не бывает. — Произнёс он и засмеялся, как последний ублюдок.
Грёбаный...
Стоп. Кэтрин бы просто не могла этого сделать. Нихрена. Если у меня ни на кого не поднимается, то и у неё намокало только под душем. И то, когда она представляла меня, только меня.
— Ты лжёшь, Мурато. — Я старался держать себя в руках.
— Ты в этом уверен? Тогда, почему я слышал стоны: «Антонио, Антонио» из своего кабинета?
— Потому что твой сын-художник трахал санитара. — Сквозь зубы ответил я. Мурато расхохотался, откинувшись на кресле.
— Браво, Марсель! Только посмотри на себя! Если бы я заговорил с тобой таким образом в первом месяце нашего общения, ты бы скинул меня с балкона.
— Я ещё думаю над этим. — Мило усмехнулся я. Гонелли трясся от беззвучного смеха.
Инцидент был исчерпан, а уверен я в этом стал тогда, когда Антонио приехал со своим дружком Питером на Рождество. М-да, «лучшей» компании для праздника не пожелаешь: отец, сын и бедный Питер с истерзанной задницей. Ну, и бог я. Аминь.
Весь январь и февраль я посвящал тому, чтобы понять, как заново попытаться всё начать. В этом мне помогал Гонелли и спорт, зависимость от которого Мурато воспитывал во мне, сказав, что каждый человек склонен к какой-то колоссальной и поглощающей привычке.
— И пусть лучше это привычка будет хорошей. — Улыбался он, когда мы вечером прогуливались на беговых дорожках. — Спорт — прекрасный наркотик.
Я нахмурился.
— У меня другой наркотик. — Выдохнул я. Гонелли внимательно уставился на меня.
— У моего наркотика есть сексуальное тело, самые красивые глаза и сочные губы. Только я не знаю, как вернуть его.
— Уверен, что с таким телом, Марсель, много усилий тебе не нужно.
— В тебе просыпаются наклонности сына, Мурато, будь осторожнее. — Он рассмеялся.
— А ты не расслабляй булки.
— Хватит пялиться на мою задницу. — Расхохотался я.
Вместе мы часто подстёгивали друг друга, особенно когда занимались вместе в спортзале.
— Знаешь, шутки шутками, но меня правда интересует, как я должен поступить, чтобы вернуть её. — Произнёс я, глубоко дыша и прервал бег, нажав на специальную кнопку на панели. Утерев влажное лицо полотенцем, я посмотрел на Мурато, сползающего с дорожки. — Тело телом, но телом взять мало. Я, конечно, могу... — Дрожаще рассмеялся я.
— Никто не сомневался!
— Именно. Просто я хочу понять, как мне объяснить ей, что я сожалею. Я строил план собственного самоанализа, но, когда преступал к нему, выходило, мягко говоря, хреново. Она приезжала в наркологическую клинику ко мне, но я был не в форме...
— Ты выражался только в нецензурной форме, точнее. — Рассмеялся он. Я закатил глаза.
— Пусть так. Я был в грёбано-хуевой форме. Я не хотел её как-то... обидеть, я просил сказать, что мне стало плохо. Так и было. Ты сам знаешь, что случилось в тот день.
— Да, твои родители...
— Вот. Она спросит меня о наркотиках. Спросит, почему я поступил так, а не иначе, а я... Я не знаю. Если бы я был Дорианом, я бы рассказал ей всё. Но я похабник-матершинник Маресль, приятно познакомиться, я хочу тебя трахнуть, ты забудешь всё на свете и будешь моей... Вряд ли такая речь подойдёт, да?
Гонелли рассмеялся.
— Ты меня очаровал, засранец!
— О-о! — С досадой застонал я. — Всё, иди в задницу, с тобой просто невозможно говорить.
— Ладно, ладно, Марсель... — Смеялся он. — Тут не угадаешь, пойми. Ты ведь многое усвоил из наших бесед, верно? Ты вел себя со мной откровенно, при этом не снимая штанов. Что тебе стоит устроить духовный стриптиз с Кэтрин? Она знает тебя лучше меня. — Серьёзно проговорил он. Потом улыбнулся. — Она видела твой...
— Ты озабоченный, Гонелли. — Смеялся я. — Ты, блять, чертовски озабоченный.
Но в этих его словах была огромная доля правды. Чего мне стоит рассказать ей о том, что накопилось у меня в душе? К тому же, меня никто не торопил и не торопит. Я просто должен найти слова. Просто должен увидеть её, увидеть в её глазах, что она по-прежнему любит меня, что она готова меня выслушать. Тогда мне всё будет по силам. Тогда я смогу, действительно смогу быть тем человеком, которого она всегда заслуживала и заслуживает.
В январе, в клинике я начал общаться с девушкой по имени Кэйси. Она стала рассказывать мне свою историю, как-то сама, я ничего у неё не спрашивал. Её парень-наркоман, Джексон Хелл, довёл её, и так страдающую биполярным расстройством, до трёх лет в здесь. Я понял, что она уже прошла большой курс реабилитации и готова в любой день к выписке, но у неё была мечта, чтобы он сам пришёл за ней, как за принцессой, скрытой в этом замке и ждущей его. Она не выходила из этой клиники, потому что не хотела терять надежды. А когда она стала рассказывать мне про Кэт, я понял, что это судьба. Я должен был помочь, чем мог этой девушке.
В конце новогоднего месяца приехали Дориан и Лили вместе со своим карапузом. Мальчика назвали Кристианом. Я почему-то не сомневался в этом. Я узнал, что его крёстным отцом стал Крис, а матерью Рэйчел, и сразу вспомнил о своём обещании, данном Мэлу. Лили и Дориан хвалили мой внешний вид, образ жизни и образ мыслей — я старался быть позитивным и получалось у меня не слишком уж плохо. Они по-прежнему верили в меня. Верили в нас с Кэт и взяли слово, что я выйду из этого кокона клиники хотя бы в марте. Лили выглядела хорошо, даже очень хорошо: материнство её украсило. Я узнал, что ей пришлось перенести заражении крови ещё в наркологической, но сейчас я был рад, что её кожа безупречна и выглядит она счастливой. Я обещал прийти на её спектакль, едва буду в Сиэтле.
Кристиан Грей второй просился ко мне на руки, пускал губами Дориана пузыри и смотрел мне в глаза своими голубыми и чистыми глазами так искренне, что я и не заметил, как он... нассал на меня.
— Спасибо за приглашение на свадьбу. — Рассмеялся я. После, пока Лили меняла его памперс в комнате, я смотрел на него и гладил тёмные пряди волос, спадающих на лоб.
— Надеюсь, ты не такой, как твои родители, малыш. У них совершенно нет фантазии.
Лили, выгнув бровь, смотрела на меня. Я рассмеялся.
— Почему это? — Спросил Дориан.
— Алло, Дори, это уже третий Кристиан в нашей семье.
— А как ты бы назвал сына?
— Я? — Нахмурившись, я думал недолго. — Возможно, своим же именем.
Дориан усмехнулся.
— Кэт бы тебе не дала.
— Кэтрин, Дориан. Для тебя она Кэтрин. И нет ничего такого, чего бы моя Кэт мне не дала. Потому что она любит меня. А Лили любит нашего дедушку. — Рассмеялся я, за что получил подгузником по плечу от Лили, а по затылку ладонью от Дориана.
— Заткнись. — Шикнул он.
— Что такое, Дориан? Ты же тоже бабушек любил. — Я не мог не хохотать.
— Ты идиот? — Мне нравилось бесить брата. — Лучше прекрати, мистер Самомнение, или я тебя...
— Плёткой? Это не гигиенично, Дориан, фу. Лили, ты слышала?
— Марсель. — Она выразительно заглянула мне в глаза, аккуратно положив Кристиана в коляску.
— Это звучит, как грязный мат, Лили. Продолжай в том же духе. — Она закатила глаза, подошла к своему мужу и обняла его за талию.
— Мне кажется, Дориан, что Марсель больше, чем в порядке.
— Тебе кажется. — Улыбался я, но чувствуя боль оттого, что Кэт не может меня так обнять, мне сейчас хотелось умереть.
Февраль я также провёл в клинике, более-менее накидав для себя план того, чем буду заниматься первые месяцы. Я был уверен, что должен помочь Кейси, ибо эта ситуация была мне знакома. И была болезненна, если бы осталась не разрешённой. Гонелли пожелал мне удачи и сказал, что верит в меня больше, чем я могу себе представить.
Перед тем, как вернуться в Сиэтл, я полетел в Калифорнию. В Лос-Анджелесе я забрёл в тот мёртвый район, адрес которого мне дала девушка, мечтающая о юноше, курящем анашу, её словами — о принце. Судя по её рассказам, этот субъект был не так уж потерян, как запущен и мои догадки подтвердились. Я нашёл его, а потом созвонился с доктором-наркологом, который носился со мной, как курица с яйцом. Я оплатил все необходимые курсы лечения. Мать этого парня была благодарна мне, даже слишком. И это было неловко. Её ноги были парализованы от сильнейших ожогов. Однажды обкуренный сын устроил пожар. Едва с Джексоном было улажено, — он был не буйный, просто бесцельный и апатичный, — я предложил женщине помощь в ожоговом центре Сиэтла, в котором однажды был сам и познакомился с Иддан.
С Иддан, которую встретил там же снова, только теперь — прекрасным подростком, несмотря на операцию на лице. Она узнала меня. Мы говорили в кафе около часа: скоро её ждёт очередная пересадка кожи, но у неё есть парень, собака и вера в людей. Она буквально вынудила меня рассказать, что я делал в ожоговом центре. Естественно, я соврал, что просто встречался с подругой.
Добро — это то, чем я не любил хвастаться. Это то, что должен делать каждый человек, по мере своих сил и возможностей, моральных и физических.
Иддан про подругу, конечно, не поверила и не смогла не напомнить мне, что это всё ещё те вырученные деньги Леоны, которые помогают ей делать пересадку кожи каждые полгода. Я подумал о наркотиках. Что, если бы их можно было вытащить? Скольким бы я мог помочь...
Я не заметил, как прошёл март. Рядом со мной снова была Линда. Моя прекрасная собака скучала по мне и обмочилась от радости, когда увидела меня. Я проводил с ней свои вечера и разрешал спать со мной.
Помимо помощи пострадавшим от пагубной зависимости, сыну и матери, я наконец-то стал крёстным папой Аны, Моей... кхм, партнёршей по этому обряду стала Лили. Вторую дочь Армэля и дочь отца, Лану, я не крестил, но просто был обязан присутствовать на всех обрядах и церемониях. Второй месяц весны прошёл в Италии: я познакомился лично с Джексоном. Мы долго говорили. Я заставил его поверить, что он нужен в этой жизни — сказал, что его мать сможет ходить с помощью протезов, уверил его, что Кейси его ждёт и пообещал дать ему работу в своем офисе. Он не верил этому счастью, но мне просто хотелось сделать больше хорошего, чтобы кто-то свыше увидел это и помог мне вернуть Кэт, вернуть мою жизнь, вернуть мой смысл жизни, как я сейчас помогаю чужому мне человеку вернуть его.
Парень знал, за что бороться. И пока я, с апреля по июнь, разбирал завалы в офисе, уживался со своей новой секретаршей Трессой, он боролся. Когда я спросил Мойерса, где его сестра Кэролайн, Фил — теперь муж моей самой вредной сестры, а не просто помощник, — рассказал, что та, около года назад, свалила со Стефом в Австралию. Я почувствовал смутную грусть, боль, но только не ненависть и был доволен этому изменению. Так намного лучше. Для меня это правда было большим сдвигом.
Сдвигом было и то, что я старался лавировать между семьями моего отца и моей матери. Лана — оказалась одной из самых чудесных детей, которых я знал. Она смущалась, когда видела меня, и делала это так искренне, как могут только маленькие щекастые девочки, — но всё равно просилась ко мне на руки, а если залезала, то не сходила часами. Я почти сразу полюбил её.
Мы часами говорили с отцом, он советовал, как начать заново общение с Кэт, я слушал, постоянно читал новости о ней и даже создал ради неё инстаграм, подписавшись каким-то непонятным даже мне набором букв. Всё, чтобы следить за ней и жаловаться на комментарии, вроде «я бы вдул», «у тебя классный зад» и так далее. Конченные выблядки.
В июне в Сиэтл приехал Джексон вместе с счастливой Кэйси. Я, как и обещал, устроил на работу его, а Кейси взял в свои вторые секретарши, так как Тресса, хоть и не была такой сумасшедшей, как Кэролайн, но и не успевала всё, даже с помощницами.
В июле мне исполнилось двадцать восемь. Я просил не праздновать. Меня, конечно, не послушали. Насколько я понял, Лили готовила мне с Доминикой какой-то сумасшедший подарок, но в конце вечера что-то сорвалось.
Я как-то на уровне интуиции понял, что это была Кэтрин. Она просто не смогла приехать.
С ужасом ко мне в голову закралась мысль: она, скорее всего, передумала быть со мной.
Не так давно, я говорил с отцом о том, как прошла их беседа тогда, в наркологической: ничего такого в этом разговоре я не видел. Я был уверен, что она поверила в то, что мне мне стало плохо, ведь Дориан и Лили не заходили ко мне.
Я напрягся и попытался детально вспомнить день, в который уезжал из Рима в Сан-Ремо.
Господи. Не может быть.
Я видел её... А она видела меня!
Но тогда я не мог поверить, что вижу её, что это вообще могло произойти в тот злосчастный день.
Помню, как сейчас: аллея, ведущая к парковке, полусумрак. Я с чемоданом иду к машине, в которой меня уже ждёт водитель.
Я просто шёл, смотрел впереди себя. Ненароком бросил взгляд направо: там была очень красивая девушка. Моя красивая девушка. Но тогда я этого не понял.
Она сидела на лавочке в кустах сирени. Я прошёл мимо, я даже не остановился, я был в своих мыслях, я был иссушен горем, и когда поймал взгляд красивой девушки, то... я даже не узнал её.
Я почувствовал искру, но когда сел в машину, сомневался, до последнего сомневался, что это она.
Теперь, в душный вечер августа, гладя мягкую шерсть Линды, я понимал, что второй год хуже первого.
В эту вторую годовщину нашего расставания, я осознал, что мои усилия были напрасны.