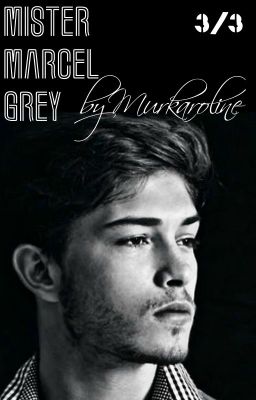hidden cry
Марсель
Последние два года - это дерьмо.
Ёбаные два года.
Вот, сколько времени прошло с того момента, как моя жизнь покатилась к чёрту. Я до сих пор помню тот день в малейших деталях: расстеленную постель, её на ней, холодную и равнодушную, злую и полную ненависти, убитую горем, потерянную, но при этом собранную. С руками, зажатыми в кулаки, с глазами, полными слёз. Её голос звучал надломано, но решительно.
Всё, что я тогда испытывал, можно назвать одним коротким словом. Шок. Чтобы убежать сломя голову, дрожа от ярости, приправленной нестерпимой, рвущейся ко мне через душу болью, была нужна последняя капля. И ею было то самое убийственное «возможно».
Она сказала так просто, без эмоций. Нет, блять, она хладнокровно пырнула меня этим. Пронзила, как кинжалом, вогнала его в самую душу. Чёрт, это «возможно» — невозможно никогда. И ни с кем. Я не знал, блять, что недотрога. Да сука, я бог недотрог!
Мне с трудом даётся думать о тех страшных днях «первого года», так скажем.
Думать о боли всех тех адских трёхсот шестидесяти пяти дней. Я был, как хуев слепой котёнок, брошенный в реку, в пропасть, на верную гибель. Моя жизнь снова разделилась на «до» и «после»: я не могу сравнивать то, что произошло с Леоной и то, что случилось с нами, даже близко. Я не могу, но состояние у меня было практически одно и то же.
Нет, блять, нет. Всё было ещё хуже, гораздо хуже.
Просто представьте: я — один. Даже не так. Я — без неё. Я бы лучше выглядел в лице общественности, если бы был убит, нежели брошен ею. Я не умел дышать без Кэт. Я даже не знал, как это делается. И теперь был вынужден пытаться, вынужден учиться жить заново, стараясь не уходить далеко в свои мысли и воспоминания о ней. Воспоминания, которые я лелеял в своей голове, как грёбаный старик, везде отбывший и всё отживший.
Но всё начиналось гораздо хуже: я надеялся и верил, что она спасёт меня. Я звонил ей каждый день, — до своего первого разговора с Лили, — и предпринимал таких пыток-попыток по пятьдесят в час.
Один раз я набрал её номер пятьдесят четыре раза.
Пятьдесят четыре грёбаных раза.
Знаете, блять, сколько это гудков? Дохуя и больше. Сначала я игнорировал помощь голосовой почты, потом не выдержал и выговорил ей всё, что чувствовал. Лили думает, что она была первым человеком, принявшим удар на себя, но, на самом деле, сначала я поговорил с Кэт. По крайней мере, все мои мысли были озвучены ей первой, хоть и не нужно было этого делать. Кэтрин не прослушала сообщения. И, следовательно, ничего не ответила. Да что там? Она решила начать новую идеальную жизнь без боли, жизнь, где нет меня — она даже не включила свой мобильник, чтобы сказать мне последнее «прощай».
Ей это и не нужно. Равно, как и я. Сейчас у неё другой телефон, другой номер, другая жизнь, в которой мне, очевидно, места больше нет. Порой я всё же записываю голосовые и матерю её за то, что она дала мне надежду на счастье, а потом ушла, сломав мне тем самым только растущие крылья. Те, которые стали расти благодаря ей.
Первый год без неё — настоящая жесть. В день нашего расставания, я был не в себе совершенно, и в тот же вечер до полусмерти избил грёбаных дружков Феликса. Каждого из них. Я хотел уничтожить их, — особенно водителя, — трахнул их головами о стены со всей силы. Я вбил им в пустые мозги, что они просто обязаны извиниться перед ней.
Они обещали это сделать, захлёбываясь кровью: все такие же тёплые тюфяки, что и Эттен.
Блять. Раньше я и не думал о том, что дерзость подобной ходячей мерзости могла подвигнуть меня на убийство. К счастью для уродов, вмешался сукин сын Феликс. Он сказал, что я — неуравновешенный, поэтому и предугадал, что «устрою взбучку». Ха, дружкам Эттена крупно повезло! Не только с другом, но и с тем, что они стояли, наверное, третьими в очереди, которых я избил в том баре.
А кто смог бы оставаться уравновешенным, если бы узнал о выкидыше своей девушки и понял, что она желает найти другой, лучший вариант мужчины для себя? Кто бы был уравновешен, когда начал понимать, как облажался перед лицом лучшего, что происходило в его жизни?
Кэтрин могла бы оставаться и поныне идеальным вариантом для меня, если бы я только мог, постоянно мог быть тем, кем являл себя ей. Я пытался стать для неё прошлой версией себя. До трагедии с Леоной, до шлюх, до Гая Фокса. Я хотел стать ей мужчиной, с которым бы она не знала никаких проблем. Самое болезненное то, что мне было в лёгкую быть таким рядом с ней. Мне нравилось смотреть, как она краснеет, когда я говорил плохие словечки. Мне нравилось, что она течёт от одного моего взгляда. Я знал, что она — никогда бы не смогла сказать мне «нет». Но я убил всё её доверие ко мне.
Я слишком переоценил себя сначала. Я возомнил себя слишком, блять, сильным. По крайней мере, я думал, что я сильнее, чем есть. Полагал, что если не волноваться и не переживать о прошлом, не вспоминать о нём, оно сотрётся со временем навсегда. Оно исчезнет из памяти. Но Леона, как злой рок, как чёртово проклятье висела надо мной.
Я столько лет жил, надеясь, что раны заживут, потому что время доктор, но... меня оно ни хрена не лечит. Это работает только с теми людьми, которые всегда были настоящими и искренними. Кэтрин — всегда была настоящей. Да, она была несчастна после смерти матери, но она не боролось с болью путём перелома самой себя, своего характера и своей натуры. Она замкнулась, закрылась, но оставалась собой. Глубоко внутри была собой.
Я же лез в грязь. Я хотел опуститься глубже некуда, ибо Леона заставила меня бояться предательства и боли, которая уничтожает. Когда мужчина боится, он начинает пытаться быть бесстрашным и для этого делает всякую чёртову херню. Кэт возлагала на меня большие надежды, очень большие, а я разбил их и потоптался сверху.
В тот первый раз, когда я говорил с Лили, я выпил целую бутылку лимонного ликёра. Я хотел пить его столько, чтобы ощутить, как кислота прожжёт мне горло, чтобы моя внутренняя боль, спрятанная под костями, ушла, разошлась по моим жилам, но это мне не помогало. Ни капли, ни малейшего варианта не было, что мне кто-то или что-то может помочь. Лили успокаивала меня. Благодаря ей я пытался убедиться, что наш разрыв временный и это удалось ей. Но ненадолго.
Лили ходила к Кэтрин в больницу: такого кошмара, что Кэт пережила, я услышать не ждал. Её приступы, отказ от еды. То, как она гнала меня, померещившегося ей. Она гнала меня, даже когда я был бестелесной галлюцинацией. Какое может быть продолжение после того, что она даже смотреть на меня не хочет? Я пытался поговорить с ней после, звонил и звонил, но без толку. Я умолял Лили поговорить с ней снова, ей пришлось приехать домой к Ридам.
Я попросил Лили привезти Кэтрин в Старбакс, в тот самый, где я всегда покупал ей латте. Я хотел, чтобы она позвонила мне, тем самым устроив нашу встречу, если бы ей это удалось.
Однако Лили этого не сделала. Не позвонила. Она была слишком честна и прониклась к Кэт. Она тоже предала меня. Она сказала, что посчитала это неуместным. Неуместным, блять, дать нам шанс увидеться в последний раз.
Но это не конец, чёрт. Лили окончательно взбесила меня тем, что даже не дала мне адрес клиники, в которую на неопределённый срок отправлялась Кэтрин. Я чуть ли не вставал на колени, но она была непреклонна. Она тоже решила, что Кэт — лучше быть без меня.
Тогда я принял решение, которое отрезало меня от каждого в этом грёбаном городе.
Я уехал из Сиэтла, до этого попытавшись выбить адрес клиники у Марсдена, Гленна, Феликса, но никто не был снисходителен ко мне.
Я решил вернуться в то, отчего так трудно было выкарабкиваться, потому что такая привычная грязь была единственной, способной залечить мою боль и сердечные муки. Я знал, что Фил справится, а Дориан не спустит с него глаз. Я пустил все дела на самотёк, а Линду оставил у Джастина, её тренера. Она была единственным моим другом на протяжении тех девяти дней. Она скулила вместе со мной от боли и переворачивала в доме всё, что лежало хорошо. Тоже, вместе со мной.
Мне просто нужно было уйти куда-нибудь. Сбежать, нахуй сбежать. Первые две недели я шлялся по барам в Марселе: курил и пил, курил и пил, и пил, и пил. Затем валялся на своей вилле, вспоминая счастливые часы, проведённые здесь. Я не мог ничего есть, точнее, не хотел, мне было лень поддерживать свою жизнедеятельность. Я записывал тысячу голосовых на заброшенный телефон Кэт, я материл её и ненавидел себя. В баре я постоянно вступал в склоки, пока меня нахер не гнали оттуда. Меня били, я калечил, у меня всё горело внутри, и я сжигал свои органы алкоголем. Когда меня начали мучить телефонными звонками для проверки, жив ли я, где и так далее, я выкинул в Средиземное море свой телефон.
Кэтрин поступила практически так же, разорвав всякую связь со мной, и я решил разорвать связь со всем, что тянуло меня обратно. То, что напоминало мне о нормальной жизни, полной чувств и любви. Той жизни, которая была у меня только с ней. Моё лицо было синим от ударов и алкоголя, на губах кровоподтёки, прочая херня, и я постепенно к этому привык. Глаза... Я не мог смотреть себе в глаза.
Я ненавидел того человека, чей взгляд ловил в зеркале или в витринах баров. К тому же, фингалы, полопавшиеся от бессонных ночей капилляры и синяки не давали мне прельщаться собственным внешним видом. Лёгкие наркотики, которые, в основном, оказывали побочный эффект тошнотой, награждали неудержимым процессом смены размеров зрачков, а также неспособностью переносить солнечный свет... В один день, когда все эти факторы слились воедино, я пристрастился к очкам с чёрными стёклами. В тот вечер, когда меня чуть не повязали, выручил один очень серьёзный наркоман, одев мне на нос очки.
Я всегда считал наркоту конченным дерьмом. Но когда тебе больно так, что сводит рёбра, когда тебе хочется биться головой о стену, царапать землю, лезть на стену, вешаться на винтовой лестнице и резать вены в ванной — это невероятная помощь.
Ты полностью отключаешься и наблюдаешь, как вокруг тебя летают вертолётики и космические тарелки. Всё вокруг розовое и мягкое. Тебе не жарко и не холодно, даже если ты, как и я, лежишь на мраморе без рубашки в неотапливаемом помещении квартиры в Париже, в то время как во всю тусуется сентябрьская непогода. Нет боли нигде. Ты забываешь об этом чувстве. Ты не чувствуешь своего лица, или ощущаешь, как оно растекается медленными потоками за пределы комнаты. Однажды я озвучил это своим темнокожим французам-наркоманам, в чью шайку попал в Мулен Руже. Мы ржали три часа, наверное... Не знаю, но когда я открыл глаза, был уже вечер, — и всё это время мне казалось, что я смеюсь. Потом один из шайки сказал, что у него потёк член, мы снова ржали. Тогда я заметил: «хорошо, может у тебя отрастёт» и обкуренный смех продолжился.
Такие вечеров было много, охренеть, как много. На мне висели мои рубашки: мышечная масса вместе со мной бежала по наклонной, но когда в тебе наркотики, ты самый сильный, самый умный, самый правильный. Все эти вечера слились для меня в одну массу. Только одна ночь в Мулен Руже мне запомнилась. Тот вечер, когда туда пришёл отец.
Я сидел за барной стойкой и вдыхал белые полоски порошка, насыпанные в две линии на чёрной поверхности. Яркий свет хреновой светомузыки жёг глаза даже через чёрные стёкла, и это меня просто невозможно бесило. Я помню хватку за плечо. Отец стащил меня со стула, как мальчишку, вывел на улицу и завёл в какой-то тупик с разрисованными стенами, залитый красным светом фонарей.
Я даже не задавался вопросом, сколько времени прошло с тех пор, как я выбросил телефон, но в одной тонкой футболке, рваных джинсах и кожанке в Париже уже было холодно. «Приветствием» отца был удар кулака мне в скулу. Очки с громким звяканьем упали на пол. Мне не было больно, или стыдно. Кровь текла у меня из губы, но я смеялся, смотря на его злое, как мне казалось, смешное лицо. В его глазах было столько боли, отчаяния, разочарования, равно, как и у Кэтрин.
Но в тот момент мне было плохо. А с отцом я был восхищён собой и тем, что вызываю столько негативных эмоций у родного человека.
— Ты, блять, что делаешь? — Он орал это мне так громко, как мог, но в мои уши будто была заложена вата.
— Что я, блять, делаю, не должно тебя ебать! — Последовал ещё удар, но я его не ощутил. Только понял, что почти упал, но вовремя успел ухватиться за стену.
— Марсель, не смей так говорить со мной! Смотри, во что ты превращаешься! Ты знаешь, что мы с мамой чуть с ума не сошли, пока ты здесь занимаешься дурью?! Блять, я не думал, что эта та самая дурь, в прямом грёбаном смысле! Ты не останешься больше ни дня в Париже. Я увезу тебя обратно в Сиэтл! Сегодня же.
— А вот ни черта подобного! — Бешенство овладевало мной, эйфория от наркотиков звучала внутри раскатами грома, и я чувствовал себя блядским Зевсом в те самые моменты. — Ты бы видел, как мама страдала из-за тебя! Сейчас Кэтрин страдает из-за меня!
— Ещё раз показывает, что мы родственники! — Орёт он. — И я, как твой отец, уведу тебя на хер отсюда! — Я пихнул его в грудь, заставив удариться о стену. Я понял, что мог говорить всё, что накипело. Если бы я не был в наркотическом дурмане, мне бы было очень больно, и я бы молчал в тряпочку.
— Нет! Мы совсем не похожи с тобой! Ты наслаждался болью, которую приносил маме, а я схожу с ума от того, что произошло! — Это было правдой. Самой полноценной и настоящей. — Только я достаточно сильный, чтобы оставить её в покое и дать ей быть самой счастливой, блять, а ты снова и снова идёшь к маме, зная, что ты — её чёртово слабое звено! Ты тот, которого она всегда простит, поймёт и примет! Дело в том, отец, что разница между нами огромна — ты имеешь сотни прав на ошибку, а я не имел ни одного! Она отрубила меня от себя! Никто мне не помог предотвратить это. Никто не наставлял меня, потому что мой отец был слишком занят новым наследником! — Выплёвывал я желчь за желчью. Теодор бледнел. — Мы с Кэтрин не вместе... уже несколько месяцев, блять. В ваше первое расставание ты же тоже не держал целомудрие, да? Ты же ебал всё, что хотел! И мать закрыла на это глаза. Она поняла. Только я тупой, я не понимаю, как это возможно. У тебя сердце, наверное и голова, идут рука об руку, но отдельно от твоего члена! Для тебя трахаться, как ходить в туалет, плевать, насколько он общественный! А меня выворачивает, когда на мне виснут всякие шкуры! Меня трясёт, трясёт от мысли, что Кэт сейчас кто-то также может трогать так, чтобы заставить её забыть меня! Мне больно! Мне больно, тяжело и плохо, поэтому я останусь здесь и буду делать то, что делал, столько, сколько мне заблагорассудиться: ни ты, ни кто-либо другой, никто и никогда этого не остановит, пока я сам не пойму, что мне достаточно, что я могу дышать без неё! — Я помню, что зарыдал. Я бился в конвульсиях, скатившись по стене, я ломался. Я ломался ко всем чертям, и, кажется, это было уже последний всплеск эмоций, который я перенёс перед тем, как застыть. Надолго застыть.
— Послушай, что я скажу тебе, Марсель. — Голос Теодора дрожал.
— Ты, блять, грёбаный Фигаро. — Прошипел я. — То тут, то там. Я не знаю, как ты можешь жить с этим, смирившись, что всё, что ты делал, приносило страшную боль! Я сдохну от пустоты внутри, но Кэтрин будет счастлива. Она будет. Я знаю. Я знаю...
— Марсель! — Он взял меня за плечи и встряхнул, приподняв на ноги. — Да, мы не похожи! Да, ты намного лучше меня! Но я, как никто, понимаю сейчас твои чувства. Я чувствовал тоже самое, когда Айрин оттолкнула меня в первый раз. Я хотел объяснить тебе всё по порядку, но ты... — Он встречается взглядом с моим, прерывается и выдыхает, продолжая. — Я спасался в единственном, что считал наименее грязным. В сексе. Алкоголь был, как прелюдия, чтобы я мог представлять другое. Не то, что вижу. Но я никогда не подсаживался на то дерьмо, что ты пускаешь по своим венам. Спустя годы Айрин рассказала мне, что расставание со мной, как мне казалось тогда, молодому идиоту, — равнодушное и холодное с её стороны, обернулось для неё потерей нашего ребёнка. — Голос Теодора звучал шёпотом, но я слышал его громко, будто колокол, находясь при этом тем, кто звонит в него. Эти слова хлестали меня, я жмурился и стонал от боли. — Да, Марсель! Она потеряла его, а потом заболела какой-то хренью, из-за которой развивается бесплодие, но мы... мы вместе преодолели это. Мы всё преодолели, мою боль, её, мы спасли наши чувства, но всё это случилось, когда мы попробовали заново! Вместе. Сейчас Кэтрин до сих пор в клинике, но как только она выйдет оттуда, она не должна увидеть тебя таким! Смотри, смотри, во что ты превращаешься! Ты еле дышишь, весь белый, где твоя мышечная масса?! Ты потерял её, но ты не должен терять себя. Снова. Снова терять себя, потому что в один день ты поймёшь, насколько ты ошибался, поступая так, забив на себя хер! Пойми!
— Мне заебалось понимать! — Орал я. — Мне надоело. Я больше не хочу чувствовать боль, что чувствую. Я люблю её. Я, блять, люблю её, но ей хорошо без меня!
— Не повторяй моих ошибок. Начни бороться сейчас!
— Твои ошибки? — Расхохотался я. — Может, назовёшь их ещё мягче? Помарки? Опечатки? Это блядские каракули! Кто, чёрт возьми, ты такой, чтобы заставлять меня прислушиваться к тебе?
— Я твой отец! — Его щёки полыхают от гнева. — Ты должен вернуться в Сиэтл и начать выбираться из этого дерьма, прежде чем снова пытаться бороться за Кэтрин! Марсель, ты можешь очень пожалеть, если не сделаешь этого сейчас! Ты едешь со мной!
— Нет, блять! Я не еду никуда! — Я перевернул ногой мусорный бак рядом со стеной. — Я остаюсь здесь, потому что мне поебать. Мне поебать на себя, ясно?! Кэтрин достойна большего, не такого конченного урода, как я!
— Ты прав, Марсель. — Отец произнёс это спокойно, спустя паузу. Я до сих пор помню, как волосы на теле встали дыбом, а по коже побежали мурашки. — Она достойна лучшего. Как, например, сына того врача из клиники, с которым проводит дни-напролёт. Он пишет её портрет, явно увлечён ей и ведёт себя достойно, а не как ты. Он готов всё выдержать, готов побороться за свою любовь. А ты поступаешь, как я. Ошибаешься, как я. Отступаешь. Если я больше никак не могу застраховать тебя от этих дерьмовых ошибок, то я отпускаю ситуацию, чтобы потом ты, как и я, ощутил моря сожаления и разочарований, прежде чем стал кем-то стоящим! — Глаза Теодора блестели в свете ламп, чёлка липла ко лбу. А у меня задержалась в памяти его фраза: «Кэтрин проводит с сыном врача дни-напролёт, он пишет её портрет». Блять. Мою крышу уже тогда сносило.
— Кэтрин... влюблена в ебаного художника?
— Вряд ли. Но ты делаешь всё, чтобы это случилось.
— Где она?
— В Италии. — Это меня полоснуло ножом по сердцу. Я ждал, что он продолжит, что он скажет название клиники, но он молчал.
— Что за клиника?
— Я не могу сказать. Она не хочет, чтобы ты беспокоил её.
— Конечно, блять... — Зло усмехаюсь я.
— Марсель!
— Пусть всё это идёт в пизду! — Ору я.
— Ничего хорошего не выйдет, если ты появишься в таком виде...
— Хватит! Хватит! Хватит! — Я ощущал столько боли, сколько не ждал от своего сердца никогда. — Заткнись! Никто не поймёт! Ты не понимаешь! Отвали! — Я расстёгивал дрожащими пальцами «молнию» куртки, меня душило, резало и ломало.
Я выругался благим матом, потом перебежал улицу, сел в свой открытый автомобиль и выехал со свистом, чуть не сбив отца, который бежал за мной, пытаясь остановить меня. Фары встречных машин ослепляли, я достал вторую пару солнцезащитных очков из кармана куртки и натянул их на глаза.
Кэтрин везде, в каждом изломанном кусочке моей разбитой души. Я снова и снова ощущал боль, такую, которую нельзя притупить, забыть или выкинуть из тела. Она была навязчивая, настойчивая и пульсирующая. Она была невыносимая. Я ехал в ад. Я ехал к Арсу, местному наркоторговцу, который стал моим «другом» и внедрил меня в свою шайку.
В их окружении я провёл последующие девять месяцев: в начале зимы я уехал вместе с ними из Франции в Италию, в тот дом, средь Доломитовых Альп, который принадлежал нашему с Кэтрин счастью, стал поприщем наркоманов. Я не чувствовал зависимость. Я не чувствовал ничего. Я не хотел ничего чувствовать и, прежде всего, боль. Лёгкие наркотики переставали меня брать, меня тошнило и трясло. Головные боли и туман, который я прерывал только тем, что листал журналы, смотрел показы Кэт, наблюдая за её успехом. Видел её счастливую. В компании мужчин и женщин. И я хотел, чтобы она видела меня.
Блядское, пустое тщеславие. Девять месяцев моего саморазрушения делились и на «появления в свет». Месяцы, когда я впитывал в себя дерьмо меньше обычного, я посвящал на то, чтобы ходить во всякие клубы и бары. Я злился на то, что Кэтрин такая красивая и счастливая, а я никто. Но что мне поделать, кроме как сделать ей больно, если она что-то и чувствует?
Однажды вечером я застыл на парковке одного из клубов, ожидая у своей машины обещанную Арсом шлюху, но её не было. Я думал о том, как все эти месяцы меня разыскивали, и только то, что я появлялся публично, и что об этом печатали дешевки в европейской прессе, не давало моим родственникам подавать во всемирный розыск.
В тот летний вечер я успел долго простоять перед зеркалом. Я был очень худым и бледным, но больше всего меня беспокоили мои глаза. Как будто из них исчез весь цвет, чтобы они были в любое время заполниться кровью. Я нацеплял очки в любую погоду и ночью, -особенно ночью, - ибо днём я редко выходил из дома.
Я старался не думать о том, кто я такой, человек в чёрной кожанке: встрепанный, покрытый щетиной, не живой. Я старался не думать о Кэтрин, семье и себе былом. Это слишком больно.
Когда я принимал наркоту, мне было не больно. А хорошо только тогда, когда я видел Кэтрин.
Когда я видел, как она появлялась рядом со мной, целовала меня и кусалась, когда я трахал её. Я сглотнул горечь воспоминаний.
— Эй, малыш, приём! — Я помню, как услышал пьяный смех, а потом увидел идущую ко мне навстречу кралю с необъятными сиськами. — Я могу помочь тебе чем-нибудь, сладкий? — Блондинка посмеивалась, когда произносила эти слова на ломанном английском.
Её тело в чёрном боди так и просится из него наружу. Я видел много дешевых шлюх, а это, видимо, самая дешевая. С ней легко познакомиться на парковке. И взять здесь же. Я включил всё обаяние и припустил очки. От взгляда на мои глаза она резко дёрнулась.
— Ты нужна мне. — Я склонился к её уху, чтобы прошептать эти три слова ей на ухо. — Сейчас. — Она, не отрывая от меня взгляда, то и дело обводила языком губы.
— На всю ночь? — Действительно, шлюха.
— На пять минут. — Огорчаю плодоноску.
— Так себя недооцениваешь...
Бля-я-ять, детка, что-то уж точно может страдать, но это не моя самооценка. Отвечаю.
— Вообще-то, мне просто нужно пройти мимо тех ублюдков с фотоаппаратами с симпатичной бабой в бар, где я смогу нахуяриться в свалку. Видишь ли, у них дресс-код: своя шлюха. — Я мило улыбался ей.
— Ты... такой нахальный. Теперь я тебя хочу! — Её глаза вспыхивают, и я понимал, что она не пиздит. Да, выгляжу не лоск, но по-прежнему цепляю шлюх. До чего мило-то!
— Что ж, неудивительно. Нет-нет, да и я сам себя хочу.
Я с самодовольной ухмылкой наблюдал за тем, как у неё отваливалась челюсть. В итоге, она выдавила:
— Ох... Думаю, я готова быть с тобой. Даже бесплатно. — Она подмигнула. Мне хотелось блевать от этих попыток кокетства.
— Какая честь... — Издевательски протянул я.
— Так, значит, с тобой я смогу попасть в этот крутой клуб? Я столько раз напрашивалась, но получала сплошное игнорирование.
— Забудь о плохих временах, я сегодня блядски щедр. — Проговорил я, обнимая за талию шкуру, и принявшись двигаться с ней мимо небольших стаек людей к клубу.
Фотографы атаковали нас, они делали снимок за снимком, некоторые зачитывали чьи-то слова... кажется, Лили... в общем, кого-то из моей семьи. Фразы о том, что они страдают за меня и хотят, чтобы я вернулся.
Блять, мне в тот момент так хотелось заткнуть уши.
Шлюха, которую зовут Элиной, та самая, что вошла со мной в клуб, крутилась рядом со мной весь вечер. Она пила со мной, пыталась шутить и предпринимала дешевые попытки соблазнения. Она пыталась быть сладенькой и меня это чертовски смешило. И тошнило от этого. Кэтрин сексуальна, а эта только пыталась ей быть. В ней не было ничего настоящего, только похоть, поверхностность и тупость. Я встречал блядей и хуже, хер с этой. Главная загвоздка состояла в том, что я меня воротило от чужих рук, губ и прикосновений. Когда ты любишь кого-то так сильно, тебя до дрожи пробирает отвращение к другим. У меня оно к ней было непостижимым. И пороху добавляло то, что она хотела меня. Больше всего мне хотелось ударить её, но я не мог ударить женщину даже когда был пьян или накурен в хлам. В этот вечер я только пил, и впервые задумался о тех мужчинах, которых так много вокруг Кэтрин на светских тусовках. Неужели, кто-то из них уже был в её трусиках... А на мне сидит эта блядь. Она уже забралась на меня. От этого тошнота подкатывает к горлу.
— Пошла к чёрту, ты меня заебала! — Хрипло рычу я, скидывая её с себя, и тут же иду в ванную.
Этот процесс стал таким привычным. Когда мой желудок полностью освобождается, я умываюсь и пытаюсь привести в порядок спутанные волосы, убрав очки в карман.
Руки трясутся, пальцы ломит. Растираю фаланги. Шея горячая, в ней пульсирует жила. Расправляю спутанные волосы, чтобы выглядеть нормально, но выходит плохо. Я оброс, щетины больше, чем обычно. Надо бы попробовать снова заняться собой, но сейчас я слишком слаб. Мне двадцать семь, разве таким я, блять, видел себя в двадцать семь? Глубоко выдохнув, я вернулся в зал, где меня уже ждала обещанная доза на столе. Я решил поскорее внюхать её, как рядом со мной снова появилась эта шлюха.
— Может, поменяемся? Мука неплоха, но для слабеньких, вроде меня. Я могу дать тебе таблеточки. — Она достает упаковку и трясёт ею передо мной.
— Ты тоже употребляешь?
— Конечно. — Её ухмылка была заметна даже в темноте. — Лучше принимать их в тихом помещении. Знаешь, сколько картинок ты сможешь увидеть? — Она играет бровями.
— Дай их мне, забирай порошок. — Говорю я, встав с дивана. Парни смотрят на меня.
— Ты что, уезжаешь из-за каких-то сраных таблеток? Вдруг они хуйня сильная? Мы же вроде договаривались, что будем сбавлять обороты? Помнишь?
— Помню. Я в последний раз хочу оторваться. — Шлюха вкладывает мне в руку упаковку, и я тут же почувствовал, как меня начало ломать.
Я приехал в свой дом, в котором снова всё было вымыто и чисто, как в больнице, с хлоркой, после нашей последней «вечеринки». Я убеждал себя, что не делаю ничего плохого. Во всяком случае, самым большим дерьмом считаются уколы: я вдыхаю, курю травку и глотаю таблетки. Я на лёгких. Я крепкий. Я независимый, вообще, не от чего не завишу.
Ладно, от Кэтрин, я зависим только от Кэтрин. Таблетки у меня ассоциируются с тем, что я её увижу. Она придёт ко мне, когда моё сознание и боль уйдут нахуй. Я лёг на диван, который был покрыт мягким бархатом. Из упаковки вытряс разноцветные кружки: фиолетовые, голубые, синие, красные... Похожи на конфеты, а на деле...
Как и Кэт: чертовски аппетитная на вид и на вкус - есть горечь, но не отвращающая, а только ещё более заманивающая. Вызывает приятные чувства, вызывает зависимость, почти экстрим. Я закинул в рот сразу три таблетки и разгрыз их, закрыв глаза. Пятнадцать минут ничего не происходило, но потом, будто перемкнуло. Мне стало труднее дышать: это было похоже на экстази, но это круче, реально, круче. Всё тело, как будто, на облаке. Спина выгибается от ощущения холодка, губы намокают. Мне так хорошо. Я почувствовал, что мне бы хотелось дрочить сейчас... Да, на Кэт. Только на неё. Но она пришла сама.
На ней было кровавое платье в пол. Оно облегало её идеальное тело, волосы спадали на лицо. Её губы улыбались, но прекрасных глаз почему-то было не видно. Она стояла поодаль и чувствовал, что смотрела на меня. Я тянул к ней руки, звал, но она не шла. Я схватил пачку и насыпал в рот ещё. Через минуту она была уже на мне. Это было так прекрасно... Меня к дивану давит её тяжелое, но такое ласковое и нежное тело. Я дышу всё труднее, мой пульс ускоряется, мои дрожащие руки пытаются расстегнуть брюки, но всё без толку. Она трётся об меня, хнычет и скулит. Скулит, просит. Я молю её:
— Скажи, что-нибудь, скажи...
— О, ты облажался. Я говорю, что ты облажался, но я простила, и я хочу тебя, Марсель... Почему ты не идёшь ко мне, Марсель? Почему ты не идёшь ко мне?
Этот горячий шёпот обжигал моё лицо и заставил замереть, а сердце биться чаще. Наши губы сливаются в поцелуе, что-то течёт по моему лицу... Вкус крови. Из её прекрасных глаз текут слёзы... почему у них вкус крови? Дрожь охватывает. Дрожь. Очень много. Желудок сжимается болезненными импульсами. Я пытаюсь крепче обнять её, шепчу её имя, но она тает, тает прямо у меня на руках, и я падаю на пол, желая разбить лоб в кровь, у меня в теле все мышцы и жилы рвутся. Мне больно! Столько боли я ещё не ощущал! Я тяну ковёр, сминаю его в кулаках и хочу подмять под себя, у меня разрывается сердце. Оттого, что она ушла. Моя девочка ушла. Вижу чёрный подол чьей-то юбки, кто-то подходит ко мне всё ближе и ближе. Уже очень близко!
Парализующий ужас захватывает меня в свои цепкие лапы, пока чей-то крик... Даже нет, не так: окрик моего имени не обращает даму в чёрном в бегство. Именно так всё и должно было закончиться для меня.
Так должен был закончиться этот адский первый год: я был так близок к смерти. И иногда я до сих пор жалею, что она не настала.