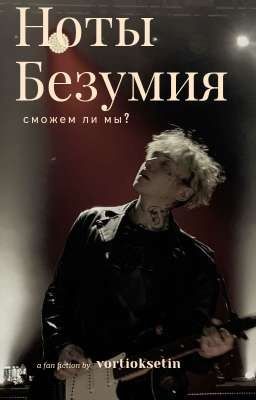пепел и прощание.
— Сука ты, Сюзанна! Ты всё испортила! — срывался на хрип Паша, вбегая за ней в коридор особняка.
Дым вился за ними, как живой, и дом трещал под набухшим жаром, будто дышал последними вдохами.
Сюзанна сдирала ногтями ткань, пинала пустые канистры, почти ползла. Паника застилала разум.
Она оглянулась на Пашу — его перекошенное лицо, перекрытое копотью, бешеные глаза, топор в руке.
И вот — балкон. Единственный шанс.
Она не думала. Прыгнула.
Её тело исчезло за перилами. Послышался глухой удар о землю.
— Нет-нет-нет, блядь! — захрипел Паша, подбегая к балкону, но вместо того, чтобы глядеть вниз, он развернулся обратно — в подвал.
Он слетел по лестнице, как будто мог что-то изменить. Но уже было поздно.
Огненный ад вырвался из дверей подвала, сорвав с петель обугленные обломки. Жара хлестнула его по лицу. Пламя добралось до лестничного пролёта.
— Глеб! — крикнул он, но его голос тонул в гуле, в хрусте, в рыке огня.
Он прикрыл лицо локтем, прыгнул через валяющийся обугленный карниз и рванул вверх — в чердак. В голове гремело: не сдохнуть, не сдохнуть, не сдохнуть...
На чердаке было темно и душно, но Паша нашёл старый мешок, в нём — какой-то тряпичный хлам, мокрую тряпку с плесенью.
Прижал её к лицу и лёг между балками.
Огнём жгло ноги, спину, пальцы.
Ткань дымилась. Кожа сдувалась пузырями. Он молчал — только стискивал зубы, дрожал всем телом.
Гори, грёбаный театр, только меня не забирай...
Он не знал, сколько пролежал — час? два?
Когда всё стихло, когда крики затихли, сирены уехали, и особняк погрузился в чёрное, тихое посмертие, Паша приоткрыл глаза.
Пахло гарью и мясом.
Он выбрался, шатающийся, обугленный, почти без кожи на спине. Ноги подкашивались.
Он шел. Пешком.
Сквозь пригород, по полям, мимо машин. Его не видели — или делали вид, что не видят.
В кармане джинс он нащупал клочок бумаги — фотографию. Там были он и Диана. Она с сигаретой, он в очках, ещё живые, нормальные.
Он разорвал её на кусочки и бросил в придорожную канаву.
Дом был далеко, но Паша шёл.
Он не умер. Он только начал жить, как призрак.
Вот продолжение главы — мрачно, напряжённо, с упором на психологическое состояние Паши:
Он шёл долго. Сначала казалось — ещё немного, и рухнет. Но потом мозг отключился, включилось только "вперёд".
Кожа сдиралась о каждый рукав, нос — забит копотью. Губы трескались от жажды.
Когда Паша дошёл до своей квартиры, это была не квартира, а берлога, нора, куда он упал как в яму.
Он не разделся. Не посмотрел в зеркало. Не пил воду. Он просто лег на пол, под батарею, и замер.
Часы прошли, может, целый день. Он почти спал, почти умирал, пока внутри не проснулась жажда мести.
Он резко сел, как будто в него влили ток. Губы пересохли, но он взял телефон — обугленный, в копоти, но ещё работающий.
Пальцы скользили, но он нашёл нужный номер. Подпись:
“Торговец. Токсин.”
Нажал вызов. Сигналы шли долго. Но голос на другом конце ответил. Глухо, с хрипотцой:
— Кто это?
— Это Паша.
Пауза.
— Паша... Паша, ты откуда? Я думал, ты сдох.
— Слушай меня внимательно. Мне нужна вся информация на одного урода. Глеб Викторов.
— И чё? Чё ты хочешь знать?
— Всё. Кто он. Кого крышует. Где косячил. Где бухал, с кем спал, кого кинул. Всё. За любые деньги.
— Паш, ты же знаешь, он не просто так живёт — его пацаны держат.
— Я найду способ. Только дай мне нитку.
— …Лады. Встретимся. Ты сам приедешь?
— Адрес. Сейчас.
— Это будет стоить, брат.
— Я сказал — за любые деньги.
— Привези хоть душу, если нет налички.
— Уже не осталось души. — Паша сжал зубы. — Осталась только месть.
Он сбросил вызов, встал, дёрнул аптечку, вколол себе обезбол — старый тюбик, всё ещё рабочий.
В глаза ударили тени. Он нацепил капюшон, и вышел в ночь.
Теперь твоя очередь, Глеб. Моя кожа горит — но ты сгоришь изнутри.
Сырая земля липнет к подошвам. На свежей могиле ещё не поставили оградку — только чёрная мраморная плита с вырезанным именем:
Диана А.
2000— 2025
Без эпитафий. Без "светлой памяти", "любимой дочери" или даже "другу". Только имя. И пустота.
Паша стоит молча. Щека в бинтах, правая рука обмотана сгоревшим марлевым слоем. Лицо как будто высушено огнём и горем. Он не спал много дней. Дышит неровно.
Он смотрит на надпись — будто она сейчас поднимет глаза и скажет что-то. Хоть что-то.
— …Ты довольна? — хрипит он наконец. Голос осипший, низкий. — Получилось красиво, да? Как ты хотела.
Он делает шаг ближе. Опускается на колени. Грязь въедается в джинсы. Он не замечает.
— Я должен был сдохнуть. В том подвале. Когда всё горело. Когда крыша над головой трещала… Я хотел, чтобы она упала. Чтоб всё кончилось.
Слеза. Одна. И ещё. Он не вытирает. Пусть течёт.
— А ты? Ты взяла и сдалась. Ты крикнула: "Паша, всё ради нас", и сгорела заживо. А я теперь жив. Один. И всё, что у нас было, сгорело вместе с тобой.
Он опускает лоб на плиту. Камень холодный. Как она теперь.
— Я ненавижу тебя за это. Понимаешь? За то, что ты всё испортила. За то, что я теперь должен жить с этим. Я даже дышать не могу — не из-за ожогов, а потому что без тебя это невыносимо.
Он поднимается. Шатается. Глаза покрасневшие.
— Ты думала, я забуду? Забуду, как мы смеялись в машине, как ты пела под "Мальбэк", как ты плакала, когда боялась, что не получится? Я всё помню, Ди. Каждую твою чёртову эмоцию.
Паша достаёт из кармана сигарету. Обожжённые пальцы дрожат. Он закуривает, делает пару глубоких затяжек — и кашляет в сторону, с надрывом, почти до рвоты.
— Мне теперь плевать. Я всё сожгу, если надо. Всех. За тебя. За нас. За то, что мы не успели.
Он смотрит в небо.
— Если ты там… смотри. Потому что дальше я пойду один. Но с твоим именем.
Он бросает сигарету в могилу. Она шипит, тухнет от сырой земли.
Поворачивается и уходит, не оглядываясь.
Машина остановилась резким рывком. Старенькая "Лада", вся в пыли, скрипнула дверью. Паша вылез, криво поблагодарил водителя и огляделся. Городской закоулок, рядом тусклая вывеска "Бар 'Слепой угол'", окна мутные, за ними едва виднеются фигуры.
Он тяжело вошёл внутрь. Воздух — перегретый, прокуренный, будто здесь не проветривали с девяностых. За дальним столом сидел дилер — лысеющий, в чёрной кожанке, с мешками под глазами, как будто он не спал неделю. Его звали Генри — не настоящее имя, конечно.
— Опаздываешь, — хмыкнул тот, отпивая из гранёного стакана.
— Я пешком шёл. Сдох бы — не жаловался, — буркнул Паша и сел напротив. Его лицо всё ещё было покрыто следами ожогов, губы потрескались.
— Что хочешь?
— Всё, что знаешь про Глеба Викторова. Всё. Что он нюхал, с кем бухал, откуда бабки, куда уходили. Особенно интересно — что за баба у него была… Даша. Кашина.
Генри ухмыльнулся, глядя, как Паша опускает руки на стол.
— Ты серьёзно хочешь его разнести?
— Я хочу, чтобы он дышал страхом каждую секунду.
Тот достал из сумки мятый листок. На нём — цифры, имена, даты.
— Это лишь часть. Денежные переводы через мутные счета. Покупки — дизайнерская синтетика. "Метеор", "Вайт Вижн", "Киотик Дрим" — жёсткая химия. Особенно в 2023-м — он почти не просыхал. Было несколько передозов, но отмазывали. Связи.
И да — у него была жена. Даша Кашина. Ушла, потому что он врал, не работал, изменял. Но, брат, она — не просто так. Она... знала слишком много.
— Где она?
— Не знаю. Уехала. Но... кое-кто из старых знает, как выйти. Всё стоит бабок.
Паша медленно выдохнул.
Он чувствовал, как внутри загорается огонь. Не месть — нет. Не ярость. Это было похоже на миссию. Он теперь хотел видеть, как Глеб теряет всё. Медленно. Больно.
— Я достану всё, что надо. Просто говори, кому сунуть. Где копать. У меня больше нет ничего. Только это.
Генри поднял глаза. В них не было жалости. Только интерес.
— Тогда готовься. Если лезешь в дерьмо, будь готов не выбраться.
— Я уже в нём, — усмехнулся Паша. — И теперь мне даже не воняет.