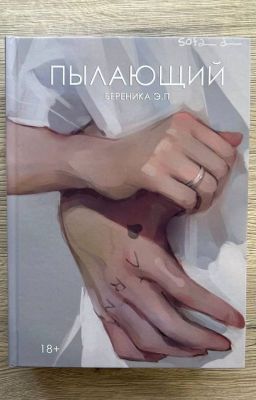Эпилог (I часть)
— Мы с ними разошлись по разные стороны, как в море корабли. Каждый уплыл по течению своей судьбы.
— Но что же все-таки с тобой случилось?
— Полагаю... жизнь?
Октябрь 2033 года...
Чимин дожидался своего вылета в аэропорту «Шоуду», сидя в зале ожидания позади всех на последнем ряду, примостившись у окна, по которому сейчас били струи холодного дождя. В Бирмингем он летел во второй раз. На крупный семинар, посвященный белым дырам, двух ученых физиков-теоретиков, по версии которых большая часть темной материи могла состоять из белых дыр.
«Из черной дыры атомы попадают в белую дыру и мгновенно вылетают из нее, но уже в другой вселенной. Причем вылетают из будущего в прошлое. Белая дыра — это обращенная во времени черная дыра.
Белые дыры нестабильны. По мере образования в них материи гравитационные силы растут и в какой-то момент схлопывают объект, превращая его в черную дыру.
Возможно, все белые дыры, образовавшиеся сразу после Большого взрыва, теперь в буквальном смысле мертвы, поэтому мы их и не видим...»
Он отпил глоток кофе, не почувствовав горького вкуса. Вместе с американо он брал и несколько пачек коричневого сахара, но позабыв добавить их в напиток, сейчас пил, не замечая ощутимо терпкий вкус. Оторвав взгляд от монитора планшета, где читал статью к предстоящему семинару, Чимин взглянул на стеклянный фасад, омываемый дождем. За ним к вылету готовились самолеты с разноцветными логотипами разных авиакомпаний. Вздохнув так, словно ему трудно было дышать, он заставил себя вернуться к чтению:
«В современной космологии белая дыра выполняет важную функцию — без нее невозможно рождение вселенных.
Допустим, в космосе возникает сингулярность. Ее взрыв и быстрое расширение начинается с белой дыры, сильнейшим образом сминающей пространство-время. Белая дыра растет, и со временем отделяется от материнской вселенной, оставляя памятку в виде черной дыры. В новорожденном мире соответственно возникает «отверстие», которое быстро зарастает благодаря излучению Хокинга.
Пока новый мир не обособился, можно наблюдать его рождение и образование внутри звезд и галактик. Не исключено, что и наша вселенная произошла таким образом внутри какого-то другого мироздания.»
Дочитать статью до конца он все же не смог. Мысли разбегались, и ему приходилось по нескольку раз вчитываться в текст. Грудь сковала тяжесть, и тоска хлынула на него похожим ливнем.
В прошлый раз зимой, в неприметном аэропорту Бирмингема, его встречал Намджун. Чимин тогда вместе с братом жил в Дармштадте, в Германии, где они проходили стажировку по направлению астрофизики в центре по исследованию ионов и антипротонов — международный ускорительный комплекс. И в Бирмингем он прилетел все также на семинар. На который и Сокджин был записан, но не смог поехать вместе с ним — накануне в субботу сходив с приятелями погонять в футбол на открытом воздухе, он затем слег с гриппом. Чимин вылетел один, сообщив о своем визите в Англию Намджуну. Тот сразу заявил, что приедет из Кембриджа в Бирмингем встретить его в аэропорту.
Тогда на календаре был 2028 год, и Намджун еще был жив.
По окончании школы, сыграв с Сидом пышную свадьбу, они уехали учиться в Кембридж. И позже, обосновавшись там, остались насовсем. Получив блестящее финансовое образование, Намджун за счет личного капитала, оставленного ему дедушкой, стал трейдером и открыл свою компанию, где успешно занимался торговлей различными биржевыми товарами (активы, валюты, фьючерсы, акции, опционы, металлы, сырье и др.) Сид же, проучившись три курса, бросил университет и решил заняться тем, что доставляло ему удовольствие — стал организатором торжеств.
Родители его были категорически против такого опрометчивого решения, друзья омеги тоже отнеслись с сомнением, и единственный, кто оказался рядом, кто всегда и во всем его поддерживал — его первая любовь и близкий друг, а теперь еще и муж — Намджун. Он отнесся с пониманием, не просил пересмотреть свое решение и сказал, что это только его жизнь, пусть поступает как ему хочется.
И это было неспроста так...
У Со Индже была системная красная волчанка, хроническое аутоиммунное заболевание, и если ему еще повезло с тем, что болезнь не поразила кожу, лишив его утонченной красоты, то с остальными задетыми органами пришлось тяжело. Болезнь поразила структуру кроветворения, центральную нервную систему и не раз вызывала воспаление почек.
Из-за того, что Сид был целиком занят учебой, последние два года он пренебрегал плановыми обследованиями, а болезнь бессимптомно прогрессировала, сказываясь лишь отеками и разными болями, на которые он предпочитал не обращать внимания, заглушая их обезболивающими. Но когда волчанка поразила центральную нервную систему и начались судороги, психоз, трудности с концентрацией внимания и, как итог, обернулась депрессией, тогда не только учиться, но и элементарно поддерживать в себе жизнеспособность стало тяжело. Он ожидаемо очутился в больнице.
Два месяца продолжительного лечения, стопка прочитанных жизнеутверждающих книг, поменявших вектор его мировоззрения, в белесой стерильной палате, куда редко захаживало солнце. Солнце вообще Англию не любило. И Сид, выписавшийся из больницы, решил, что жизнь слишком коротка, чтобы строить свое счастье завтра, и забрал свои документы из университета. Он в этой жизни достаточно проучился. Отведенное ему мирское время могло оборваться в любой момент, а ему хотелось еще немного для себя пожить...
Делать ребенка или нет, оба сомневались, хоть и хотели, так как был риск, что ребенок родится с генетически обусловленной предрасположенностью к развитию СКВ. Они советовались с врачом, думали, как поступить, но потом на фоне снижения активности болезни после пройденного курса лечебной терапии произошла внеплановая беременность: скрепя сердце, надеясь, что ребенок родится здоровеньким, они оставили его.
Так на свет и появился Ким Йесон, слабенький, с малым весом, но больно крикливый альфа.
Сид последний месяц беременности провел в Корее, решив родить ребенка у себя на родине, окруженный вниманием и поддержкой родных. То было лето 2026 года, и на памяти Чимина, последний раз, когда им снова всем составом удалось собраться, чтобы поздравить Намджуна с отцовством. Хосок прилетел из Токио. А Чимин с Сокджином тогда находились в Сеуле и пока только готовили документы для получения стажировки в Дармштадте. Намджун думал, Сокджин пропустит праздничный ужин и не захочет его видеть. Но тот вместе с Чимином все же пришел. И дал понять, что он тут ради Сида по старой дружбе, а не ради него. Намджуна он все также закореневши ненавидел, виня его во всех несчастьях брата, хотя где-то в душе и понимал, что если копнуть глубже, то окажется, что Намджун не виноват в том, что случилось с Чимином. Понимал, но отказывался принимать, ведь видел, как тяжело приходится его двойнику, и мучился от невозможности помочь ему.
Йесон, несмотря на то, что при рождении был слабеньким малышом, оказался весьма живеньким, быстро рос и набирал вес, на удивление показывая хорошее здоровье, чему его молодые измотанные родители были очень рады. И после того, как Сид оправился, пережив сложные роды, они вернулись в Кембридж к своей размеренной английской жизни.
Намджун с Чимином по завершении школы не поддерживали частое общение, лишь иногда переговариваясь по праздникам и ежегодно в виде посылок поздравляя друг друга с днем рождения, но, когда он узнал, что Чимин на семинар приезжает в Бирмингем, то, отложив свои дела, сразу вызвался встречать его в аэропорту. Ему интересно и волнительно было узнать, как на самом деле поживает Чимин и сумел ли он наладить свою жизнь после отъезда в Германию.
Оказалось, не сумел...
После семинара Намджун повез его на ужин. Оба не особо надеялись на последующее продолжение, внимательно присматриваясь друг к другу, отмечая внешние изменения, прислушиваясь к собственным чувствам, думали, что спустя столько лет то, что было между ними, выжгло себя, притупилось и исчезло, но Чимин все также отчаянно любил, а Намджуна все также иррационально влекло к нему. И под конец ужина уже оба тихо догадывались, что все закончится в постели. В номере сьют, Гранд-отель Бирмингема, где остановился Чимин.
После изматывающе долгого и чувственного секса, от которого Чимин уже успел отвыкнуть за неведением регулярной сексуальной жизни, каждый погрузился в состояние неловкого отторжения. Вроде этого оба хотели, но, с другой стороны, после близости внутри поселилось гадкое чувство «неправильности» того, что прошло между ними.
— Ты дважды дал в себя кончить, но ты не готовился к тому, что мы переспим и противозачаточных таблеток не принимал. В чем дело, Чимин? — спросил Намджун, настороженно на него поглядывая. Он голым сидел в изножье кровати и пока не торопился одеваться.
Чимин, вернувшись из ванной в банном халате, что на пару размеров был ему великоват, взяв свои ментоловые сигареты, забрался с ногами в кресло напротив балкона и, мазнув бесцветным взглядом по оживленной площади за окном, прикурил. Там снаружи, где люди сновали туда-сюда, бегая по своим делам в преддверии рождества, во всю кипела красочная жизнь... Жизнь, которую Чимин переживал на периферии сознания, жизнь, которая утекала, как песок сквозь пальцы, не трогая, не задевая его.
— Допустим, если бы я захотел твоего ребенка, ты позволил бы мне от тебя родить? — задал он откровенно прямой вопрос. И выпустив клочок дыма, порывисто обернулся на Намджуна, не мигая уставившись ему в лицо в ожидании ответа.
Намджун, что невозмутимо выдержал на себе изучающий, но такой больной взгляд Чимина, приобрел нечитаемо сложное выражение лица.
— Да, ради тебя я согласился бы. Но вряд ли сумел бы стать ему отцом. Сид мне многое прощал, но наша связь, это не то, что он сможет понять и принять. А я не хочу терять свою семью.
Чимин промолчал, коротко кивнул и, опустив глаза, вновь закурил. Намджун ушел в ванную, там зашумела вода, и вскоре он вернулся, также переодетый в халат.
— Так ты из-за этого? — сосредоточенно спросил он, усевшись на другое кресло.
Затушив фильтр, Чимин облизнул сухие губы и, не глядя на него, поспешно заявил:
— Нет... нет, не из-за этого, — он поднабрал воздуха в грудь и, стараясь звучать как можно спокойнее, выдохнул, — я позволил в себя кончить, потому что не могу иметь детей. Я теперь бесплоден.
Намджун нервно сглотнул и, подавшись вперед, напряженно воззрился на него. Шокированный голос прорезался надсадно с расстановкой:
— Что значит...бесплоден?
И Чимин, не став ничего утаивать, рассказал ему, что с ним произошло — незащищенный секс по пьяни с Кибомом. Чимин тогда учился на первом курсе, в университете Кёнхи, и в один из унылых дней пошел напиться в бар, где случайно встретил Кибома. И эта, казалась бы, безобидная случайность, обернулась роковой неслучайностью жизни.
Кибом за весь вечер любвеобильно буравил его своими черными, с цепляющим игривым блеском, мелкими глазами, источая флюиды любви. Он, как и прежде, сох по Чимину и разве что не благодарил небеса за эту прекрасно подвернувшуюся встречу. И так, и так лез к нему, спаивая омегу коктейлями, по кругу осыпая комплиментами и повторно напоминая ему о своей не угасшей школьной любви. Чимин не то чтобы слушал его, он мысленно находился совсем далеко, где-то там... в Англии, с тем, кого он, в свою очередь, любил. Может поэтому и пожалел Кибома, ведь на своей шкуре знал, каково это, любить безответно.
Чимин не совсем ясно помнил, как они потом переместились в квартирку, которую снимал Кибом, и как оказались в одной кровати. Но зато позже очень хорошо запомнил побледневшее отражение собственного лица в зеркале университетского туалета, с тестом в руках, показывающим две полоски.
Ни сам Кибом, ни его ребенок, Чимину были не нужны. Он учился на первом курсе, впереди его ждала ученая карьера с братом, и жертвовать своим будущим ради сомнительной перспективы стать молодым папой и мужем того, кого он не любил — точно не собирался. Последующий поход к врачу и медикаментозное прерывание беременности было его сознательным выбором. Он не должен был сожалеть. Это было правильное решение, как тогда считал Чимин.
Но после самопроизвольного выкидыша что-то пошло не так. Предсказать индивидуальную реакцию организма на принимаемый препарат было сложно. В некоторых случаях омеги страдали от сильных болей, кровотечений и других побочных эффектов. Бесплодие после такого способа аборта могло развиться по причине неполного выхода из матки эмбриональных тканей. Что и случилось с Чимином.
— Как ты понял, Намджун, мне просто не повезло. Я не должен был этого делать.
— Ты жалеешь? — Намджун выглядел разочарованным и искренне расстроенным.
Уронив взгляд на цветастый палас, Чимин подвис. Зажался и, поморщившись, обнял руками свои прижатые к груди колени, перестав напоминать собой взрослого. Он сейчас был похож на вызывающе красивого и несчастного мальчишку.
Прежде чем ответить ему, Чимин поразмыслил. Он представлял себе. Сохрани тогда беременность, его сын сейчас был бы старше сына Намджуна. На кого он, интересно, стал бы похож: на своего вертлявого отца с хитринкой в живых глазах и такой же улыбкой? Или на него? Может и хорошо, что малыш не родился. Чимин бы не хотел, чтобы его сын перенял у него предрасположенность к депрессии.
— Я не знаю, — наконец, честно выдавил из себя он. — Наверное, из меня вышел бы никудышный родитель. Может, так даже лучше, — он с печальной обреченностью пожал плечами.
А Намджуну было жаль. Ему впервые так сильно и больно было его жаль. Стало жаль и из-за того, что он ничего не мог для него сделать. Чимину и вправду не повезло в жизни...его полюбить.
Намджун сидел, развалившись в кресле, своей позой выражая охватившее его бессилие, и мрачным, невидящим взглядом смотрел сквозь него.
И как аналогия их связи, на подоконнике в пепельнице тлели окурки тонких ментоловых сигарет.
Он нескоро смог заговорить, на душе непередаваемо тянуло горечью. А когда заговорил, его тон сквозил неприкрытым сожалением по нему:
— А, после... Ты ни с кем не встречался, не попытался построить отношения? — на самом деле, говорить такое давалось ему с трудом, ревность бесстыже колола, как будто он имел на это право. Как будто ему можно было его ревновать.
Чимин повернулся к нему и блекло улыбнулся:
— Я никого кроме тебя не видел, Намджун. Никого. И с тех пор ничего не изменилось. Для меня был и есть только ты, — улыбка погасла, и Чимин отвел от него взор. — Тебе не понять, каково это, так самозабвенно и зависимо любить.
Октябрь 2033 года...
Объявили посадку на рейс, и пассажиров попросили к выходу. Убрав планшет в портфель, Чимин закинул лямку себе на плечо и, выбросив в урну недопитый кофе, проследовал к стойке. Зажимая во влажной ладони посадочный талон, он шел к самолету через коридор-гармошку, по которому нещадно барабанил неутихающий дождь, и думал о Намджуне. Вспоминал его таким, каким он увидел его в аэропорту Бирмингема в прошлый раз — высокий, холеный, в лощеном черном пальто, с растрепанной на ветру прической и свисающим с шеи шарфом. Запомнил галантным, с еле заметными ямочками на щеках, пахнущим новым парфюмом и своим густым запахом альфы, что Чимин часто и незаметно при других с обожанием в себя вдыхал. Запомнил его невозможным, недосягаемым для него и навсегда любимым...
После стажировки они с Сокджином подали документы на кафедру астрофизики в университет Торонто на степень магистра наук, хоть и не особо надеялись, что сумеют поступить, поскольку коэффициент принятия был довольно низок. И ожидаемо получили отказ. После чего, не особо унывая, послали заявку уже в элитный Пекинский университет, считающийся одним из самых отборных астрономических университетов мира среди всех лучших учебных заведений по этому направлению.
Так они с концами и переехали жить в Пекин, где, проучившись, остались работать в исследовательском центре университета. Монотонная жизнь в главном мегаполисе Китая их вполне устраивала. Целиком растворившись в работе, они и не чувствовали, как протекает обычная жизнь вне стен университета. Изучая через космический телескоп массивные тела во вселенной, их жизнь и смерть, невозможно было потом, ложась спать, перед сном думать о чем-либо насущном. В какой-то определенный момент человеческие страдания, отношения, проблемы, политика, природные катаклизмы — всё это, по сравнению с эпичной смертью звезды, поглощаемой черной дырой...начало казаться им чем-то незначительным, мизерным, на чем не хотелось заострять внимание и обдумывать.
И Чимин с Сокджином могли с уверенностью сказать, что работа, которой они любили заниматься, постепенно стала их отдушиной. Они не взялись бы утверждать, что были счастливы, окунувшись во взрослую жизнь, но каждый день, ездя на метро в исследовательский центр, с кофе в бумажном стаканчике, с недосыпом и развившейся на фоне переутомления хронической усталостью, рассматривая таких же, как они, торопящихся по своим делам угрюмых людей — когда каждый из них нёс в себе отпечаток бренности бытия, братья полагали, что проживают далеко не самую худшую жизнь. Они были друг у друга, и этого было достаточно, это спасало от тотального губительного одиночества большого мегаполиса, где никому ни до кого не было дела, где каждый был сам по себе.
Хосок за это время почти пропал с радаров, на связь редко выходил, и только по обрывкам информации, полученным от его старшего брата, получалось узнать, как тот поживает. Общий чат, что у них был раньше, за неактивностью удалили еще по окончании школы. Потом некоторые из них сменили и номера. Намджун продолжал поддерживать тесную связь только с Чонгуком. От последнего Чимин и узнал о рецидиве и обострении болезни Сида. На этот раз все обстояло намного серьезнее. Сид находился в реанимации, у него отказали почки. Чонгук сказал, что ему делают диализ и ищут подходящего донора для срочной транспортировки органа. Чимин слушал и, заморозившись, молчал в трубку.
Донорской почки Сид так и не дождался. Через два дня, ночью, когда Чимин с Сокджином уже легли спать, Чонгук снова позвонил, сухим, звучавшим слишком устало голосом передал, что Сид скончался, и что завтра с утра он вылетает в Кембридж поддержать Намджуна, но им самим не стоит туда лететь. Тело привезут в Сеул и похоронят на центральном кладбище, а им лучше будет уже сразу прилететь на похороны. Так сделает и Хосок. Чимин до боли сжимал пальцами переносицу, не открывая глаза и медленно кивал, словно Чонгук мог его видеть, после чего прохрипел, что они с Сокджином вылетят в Корею и, попрощавшись, повесил трубку.
Заснуть после этого не вышло. Он лежал, его мутило, а дышать получалось через раз, словно на грудь легла каменная плита, на душе отвратительно скребло. Он хотел набрать Намджуна, услышать его голос, разделить с ним его боль, утешить, но боялся, что просто горько разрыдается в динамик, не сумев ничего внятного из себя выдать.
Чимин тогда еще не знал, что это станет самым большим сожалением в его жизни, что и потом, спустя многие годы, он не простит себе того, что не позвонил, не услышал голос любимого человека в последний раз, что его разодранное сердце будет гореть и тлеть каждый раз, когда он будет вспоминать об этом.
Утром в центр они шли с братом в разбитом состоянии, по дороге не проронив ни слова. Надо было взять отгул с работы и посмотреть билеты на ближайший рейс. Голова из-за недосыпа совсем не варила. Думать о смерти Сида, о маленьком Йесоне, что остался без папы, совсем не хотелось — любая мысль отзывалась противной горечью. И вроде бы за эти годы казалось, что вконец очерствели и засохли внутри своего камуфляжа бесчувственного рационалиста, но... оказалось, к смерти невозможно подготовиться. Броня трещала по швам.
Весь день Чимин ходил сам не свой, раздражался из-за любой мелочи, ему никак не удавалось унять грызущую его изнутри мерзкую тревогу. Чонгук вылетел в Кембридж в девять утра, и учитывая восьмичасовую разницу в поясах и двенадцать часов полета, прибыть он должен был туда к часу дня. Чимин то и дело нервно поглядывал на наручные часы, ожидая новостей от него.
В пол десятого вечером, когда они дома паковали вещи в ручную кладь, поскольку после похорон надолго задерживаться в Корее не собирались, Чонгук набрал, но не ему, а Сокджину. У Чимина душа ушла в пятки, он знал — это был плохой знак, с Намджуном произошла беда, и Чонгук не решился ему звонить.
Чимин, рухнув на диван рядом с гардеробом, вмиг похолодел. Сердце, сорвавшись с ритма, рвалось выпрыгнуть из груди. Когда Сокджин вернулся, лицо у него было побледневшим и напоминало собой восковую маску. Он сказал, что ему жаль. Искренне жаль.
Чонгук не застал Намджуна живым, тело скорая помощь до его прихода уже успела убрать. В доме находились шокированные свалившимся на них страшным горем родители Сида, прибывшие в Англию еще за три дня до смерти своего сына, чтобы побыть с ним рядом. Ничего не понимающий, но расстроенный тем, что его родители куда-то пропали, четырёхлетний Йесон со своим няней и домработник. Чонгуку сказали, что у Намджуна случился обширный инфаркт. Не спасли — когда его нашли, он уже был какое-то время мертв.
Намджун, после того, как вернулся из больницы, поговорил с сыном, и уложив его спать, ушел к себе — папа Сида рассказал, что тому уже два дня как было плохо, что Намджун еще в больнице жаловался на возникшую жгучую боль в груди с одышкой и на отдачу боли в локоть и предплечье. Признаки инфаркта показывали себя, но Намджун был до того поглощен переживанием за своего мужа, что предпочел их не замечать, отмахнувшись от просьбы родителей Сида все же показаться врачу. Утром его обнаружил домработник, когда зашел разбудить. Намджун во время приступа свалившись с кровати лежал на полу лицом вниз, отвернув голову в сторону двери. Рядом с ним лежала их совместная семейная фотография, под рукой — подушка Сида. Глаза у него были открыты, на щеке еще не высохли слезы.
Чимин не понял, как сумел встать — ноги его не держали. Пребывая в пограничном состоянии шока, он скрылся в ванной, попросив Сокджина оставить его одного. В оцепенении выудив несколько салфеток из диспенсера, он на всю мощность открыл кран, пустив с напором воду и, прижав ко рту салфетки, чтобы заглушить вопль, душераздирающе заорал. Упав на колени, Чимин продолжил кричать в несколько слоев бумаги, пытаясь через нечеловеческий вопль выплюнуть наружу ошметки своего сердца. А потом он истошно закашлялся, и из гортани потекла внутрь кровь. Чимин свалился набок и, улегшись на холодном скользком кафеле, содрогаясь всем телом, заревел как смертельно раненное животное. От накрывшей его боли можно было лишиться рассудка. Никогда еще прежде он так сильно и отчаянно не хотел умереть.
Но оказалось, от любви не умирают. Не умирают и оттого, что тебя страшно ломает. Сколько бы ты себя не бил, пытаясь заглушить боль в груди, не плакал горько и надрывно...ты не умираешь. Но и не живешь.
На похоронах Чимин находился не в себе, никого и ничего не видел, из-за лошадиной дозы вколотого в него успокоительного он ничего не соображал. Бессмысленным, сломленным взглядом выцветших от пролитых слез глаз он пялился на выгравированные даты рождения на надгробных камнях. Намджуна с Сидом не стало на двадцать девятом году их жизни.
А уже позже, когда они вернулись в Пекин, и отойдя от успокоительных, его ударило осознанием произошедшего, Чимин, не раздумывая, попытался покончить с собой.
Сокджин скрыл это событие от родителей, чтобы не напугать их. Опустошенный от боли, уставший вперед на целую жизнь, с залегшими кругами под глазами, он сидел у койки брата в больнице, которого не иначе как чудом сумели откачать, держал его проколотую иглой от капельницы руку в своей и вяло размышлял над их отношениями. Он всегда воспринимал Чимина как определенную и неотъемлемую часть себя. У него не было каких-либо отличных от брата мечт, а когда он заглядывал далеко в будущее, то Чимина всегда видел рядом с собой, словно всю жизнь они должны были прожить вместе как часть одного единого организма. Но, видимо, он один был так поглощён их связью. Брат его расклад не разделял, раз безрассудно, не думая о нем и родителях, смог так легко перечеркнуть свою жизнь.
Но когда Чимин пришел в сознание и с трудом разлепил веки, Сокджин ему в упрек ни одно слово не произнес, он кроме радости и облегчения ничего не испытывал. Брат был жив, а все остальное уже было неважно. Вода камень точит, в их случае время заточит, смоет грусть и боль, вернет к жизни... всё рано или поздно устаканится. Вот то, во что он хотел верить.
То был 2031 год, и Чимин пережил истинный ад на земле.
Октябрь 2033 года...
На этот раз Сокджин не смог полететь с ним на семинар из-за того, что находился на заседании ученого совета Национального университета Сингапура, куда был приглашен как один из молодых, но перспективных ведущих ученых по астрофизике. У Сокджина все было нормально, спустя несколько лет романа со своим коллегой по отделу, они все же помолвились и после нового года готовились сыграть свадьбу. Чимин собирался съехать в отдельную квартиру и занимался обустройством своего жилья. Жизнь беспощадно и неотвратимо текла вперед, минуя на своем пути и плохое, и хорошее.
Дождь оставлял разводы на иллюминаторе, за которым разливался серый дневной свет. Чимин, потухшим взглядом скользнув по нему, спустил шторку. Капитан, поприветствовав пассажиров, объявил о полете.
Когда-то давно Сокджин поведал ему:
"— Если верить многомировой интерпретации Эверетта, то в параллельной вселенной Лухан жив и у него лучшая жизнь, просто на этой ему не повезло пережить ад. И знаешь, я хочу думать, что так и есть. Если во множестве других вселенных мы страдаем, то есть и множество тех, где мы счастливы."
Где-то в параллельной вселенной он, Чимин, тоже был счастлив, а в аэропорту Бирмингема его ждал живой, здоровый и... любящий его одного Намджун.
***
Позже, когда Хосок доучивался на втором курсе в Токийском университете искусств, Чонгук с Сокджином пожалели, что отпустили его одного учиться в чужую страну. Хосок среди них всегда был самым эмоционально впечатлительным, убегающий от любых проблем, не терпящий ответственности, их ветреный мальчик, несмотря на свой легкомысленно свободолюбивый характер, по мудрому умеющий принимать жизнь за рамками собственных представлений о том, каким всё должно быть.
Он сильно изменился уже после первого года жизни в Японии, а по окончании второго курса куда-то пропал. Около месяца от него вообще никаких вестей не было. В квартире, что он снимал неподалеку от самого университета, все вещи вплоть до телефона с ноутбуком оставались на месте, а над кроватью неизменно висела старая афиша фильма «В диких условиях» 2007 года, (отклеив плакат со стены своей комнаты в родительском доме, он забрал его с собой, когда улетал в Токио) как олицетворение того, к чему тянулся сам Хосок — нечто, не конкретного, а эфемерного. Его влекла сама одухотворенная картина, пронизанная стремлением к свободе, что привела к необратимо печальному концу. Фильм этот был основан на реальных событиях и рассказывал о жизни Кристофера МакКэндлесса, что выпустившись из престижного колледжа не пошел работать, как все, чтобы стать винтиком в механизме цивилизации, которая ему претила, а, наоборот, захотел выбраться в свободный дикий мир вдали от условностей и законов. Отдав все свои накопленные деньги в благотворительность, он отправился путешествовать автостопом по Америке. За время своих скитаний Кристофер познакомился с разными людьми, так или иначе повлиявшими на его жизнь и мировоззрение. А в конце, добравшись до Аляски и пожив на природе некоторое время, он умер от истощения в полном одиночестве летом двадцать четвертого года своей жизни. Хосок понимал Кристофера, понимал, что им двигало, его философию и душу. И сам стремился к этому... к такой всеобъемлющей свободе. К отреченью.
После месяца молчания он все же объявился, вышел на связь с родными, попросил не беспокоиться о нем и не искать его. Больше года он прожил отшельником, забив на учебу. Убегая не пойми от чего: то ли от себя самого, то ли от опостылевшей жизни, которая на фоне волны самоубийств, что прошла в университете, утратила краски, разочарованный во всем Хосок захотел уйти, и пошел, куда глаза глядят. Перебираясь с одного отдаленного уезда в другой, сменяя горы на леса, он бродил по землям Японии, погруженный в себя, в поисках своего истинного Я, без смартфона с интернетом, но с видеокамерой. Спустя год он вернулся, восстановился в университет, продолжил учебу, а снятая им короткометражка в Аокигахара (известный в Японии лес самоубийц) заняла первое место на одном из европейских кинофестивалей по программе для студентов. В своем фильме он попытался показать истинное отношение японца к самой сути смерти. Японцы не романтизируют смерть, они относятся к ней также обыденно просто, как сходить за рисом в магазин. Что, безусловно, шокирует остальной мир, принимающий смерть как противоположность жизни и придающий ей слишком много значения и трагического шарма.
В ту пору он и начал много пить. Чонгук не был уверен, но полагал, что тот увлекся еще и дурью. Во всяком случае, когда Хосок прилетел поздравить Намджуна с Сидом с рождением сына, он был сам не свой. Произошедшие метаморфозы с ним озадачили всех. Сами родители Хосока упрашивали его по завершении университета вернуться в Корею под их крыло. Чонгук тоже пытался на него воздействовать. Думал, если он будет рядом с ними тут под присмотром, они сумеют ему помочь. Но Хосок не остался. У него уже была своя жизнь в Японии, возвращаться назад он не хотел. Тем более, прежний он уже был безвозвратно утерян.
После отъезда в Токио Хосок снова на время куда-то исчез и на связь не выходил. Родители его с ума сходили. И вскоре мистеру Чону пришлось оставить свои дела и вылететь за сыном. Хосока нашли спившимся в невменяемом состоянии и определили в наркологический центр, где последующие несколько месяцев лечили от алкогольной зависимости.
Там он и познакомился с Кунайо. Бывшим актером театральной труппы. Как сам омега поведал, его имя означало «соотечественник», но находился он в стационаре, в отличие от Хосока, из-за наркозависимости.
Кунайо на тот момент принимал второй этап лечения. Из его организма уже вывели наркотики, и теперь после очищения он проходил индивидуальное психологическое восстановление. Впереди его ждал третий курс — реабилитация и возвращение к нормальной жизни.
Омега этот на четыре года был старше него и, несмотря на увядшее вместе со внешностью здоровье, из-за того, что длительное время сидел на одном морфине, обладал гармоничной и естественной красотой, да такой, что в иной раз Хосок при общении с ним путал собственные мысли-слова, зависал, беззастенчиво разглядывая черты столь несомненно красивого, но измученного лица.
Из-за морфина невозможно на чем-то одном сконцентрировать внимание, не бывает желания что-либо вообще делать, человек думает исключительно о себе, испытывая глубокую апатию с безмятежностью — теряя любую потребность в окружении. Кунайо такие моменты считал абсолютным одиночеством. Тем самым пиком, за которым стоит одна смерть.
Но тут, в центре, где он позабыл счет времени, апатия приобрела страшное лицо, он бы ненавидел окружающих, если бы нашел в себе на то силы. Душа в одиночестве без воздействия морфина не летала в астрале. Одиночество имело невыносимый и омерзительный окрас. А потом появился этот молодой корейский альфа, забивший болт на всё сущее, провожающий медперсонал с раздражительно безразличным, отдающим потухшим высокомерием взглядом.
Хосоку омега сразу понравился. Хосок им сразу заинтересовался и так и сказал, что когда выйдет из этой дыры, то заберет его с собой.
Надежда обладает великой силой. Она и есть двигатель человеческой жизни, тот самый свет в конце туннеля, что вынуждает человека жить во мраке, веря, что когда-нибудь получится выбраться на свет.
Кунайо поверил ему, а Хосок нашел в нем свою музу и беспамятно влюбился в омегу, которого позже снял в своем главном полнометражном фильме, принесшим ему славу на Каннском кинофестивале — сделав его обладателем золотой пальмовой ветви в номинации «особый взгляд». А его второй фильм с участием Кунайо, вышедший годом позднее, взял главный приз венецианского кинофестиваля — золотой лев.
Хосок не был посредником течения Акиры Куросавы, фанатом которого являлся с детства. В своих картинах он не подражал ему, стараясь снимать исключительно свое, хоть и в его работах всегда прослеживался отпечаток именитых режиссеров чьим творчеством он восхищался. То, что писал и снимал Хосок, было свежим взглядом на то, что уже отдавало ностальгией старого и бесследно утерянного... Кинокритикам подобное пришлось по душе, его нарекли молодым гением и посулили такую же громкую славу, как Пон Чжун Хо.
Хосок с Кунайо состояли в гражданском браке несколько лет, но узаконивать связь не стали и после рождения ребенка. Перебравшись в окраину Осака, они мирно растили сына и вели уединенный тихий образ жизни, лишь изредка работая над созданием новых фильмов.
***
С самого начала Юнги договаривался с родителями так, что заберет у них Тэджуна после поступления в университет. Но по окончании школы чета Минов отказалась отдавать ему своего внука, боясь за его безопасность. У Юнги с родителями и так изначально отношения не заладились, а тут, когда отец бескомпромиссно заявил, что сына ему не видать, Юнги пришел в ярость, в пух и прах рассорившись с ними. На его стороне поддержать оставались, как и прежде, братья с дядей. И не потому, что находили его в этом споре правым, а потому, что побаивались после кровавой мести японцам возросшейся силы Юнги. Это родители не догадывались, на что способен был их сын и что, собственно, значит быть главарем якудз, остальные в семье знали, вот почему и не встревали в их разговоры, лишний раз не отсвечивая.
Юнги сына путем скандалов и угроз все же забрал к себе. Тэджуну было два с половиной годика, он мало что понимал, но отца своего знал, и поэтому с радостью пошел к нему.
В высшее учебное заведение Юнги поступить поступил, хотя не совсем давал себе отчета в том, почему он это сделал, поскольку в самом университете так ни разу и не появился. Откуда его успешно затем отчислили за прогулы. Дела, что он вёл, диплома не требовали, а требовали стержня, бесстрашия, определенного толка ума — криминальных мозгов и, разумеется, жестокости. Юнги среди якудз чувствовал себя в своей стихии. И менять свой уклад жизни в угоду фамилии Мин не собирался. Даже если это по итогу грозило ему отречением от семьи.
Оставаться в том районе, где он раньше жил, было уже нельзя. То место многие знали, а врагов, после того, как он грязно подставил и порешал японцев, хватало. Юнги хотел своего сына рядом, но точно не желал, придя домой, найти его мертвым. По этой причине пришлось переехать в благополучный охраняемый жилой комплекс. Нанять малышу няньку и поставить к ним охрану в лице доверенных якудз.
Только беда заключалась в том, что Тэджуну было трудно отыскать хорошего няньку. Кого бы Юнги не находил, того сдувало через месяц-два, стоило полномерно осознать, за сыном кого именно они смотрят. Случись чего с Тэджуном, босс якудз изощренно убил бы этого няню. Омеги боялись за свою сохранность, а Тэджун, переняв у отца тяжелый характер, создавал немало проблем. Вот те и не задерживались надолго на такой рискованной работе, считая, что, сколько бы за это дело не платили, своя жизнь дороже будет. А жить под угрозой, в вечном страхе никому не хотелось.
Пока Юнги искал сыну новую няньку, за мальчиком приглядывал Ариран. Хотя бывало иногда, что в мирное время он сына брал с собой в свое заведение, где вёл дела. Сейчас он крышевал три презентабельных клуба в Итхэвоне и расширял наркоторговлю.
Якудзам подросший Тэджун нравился, они считали малыша копией своего отца и развлекали ребенка как могли, пока их босс занимался работой. Юнги и так-то играть с сыном не умел. Сажал его себе на письменный стол и, проявляя к нему небывалое терпение, чем поражал окружающих, стоически терпел все выкидоны Тэджуна. Тот с любопытством рассматривал содержимое стола, затем с таким же энтузиазмом сбрасывал всё на пол. Юнги спокойно цокал на него негромким «не делай» и сам поднимал с пола вещи. Возвращал на место, чтобы Тэджун, капризничая, опять всё уронил.
Среди его якудз водился один сирота филиппинского происхождения, что жил с младшим братом-омегой. Юнги самого якудзу хорошо знал, полезным был альфой, а вот его брата не очень. Но знал, что омега не был блядью, и якудзы о нем так-то прилично отзывались. Он часто готовил и приносил им еду, а когда одного из них тяжело ранили, согласился помочь и выхаживал его дома. А после того, как его брата в одной из драк зарезали, а омега остался совсем один, якудзы его защищали и в расход не давали. Об этом омеге боссу якудзы сами замолвились, мол Тэджуну нянька нужна, почему бы не взять Адлея. Славный омега, школу только закончил, а значит свободен, сможет сидеть с ребенком, да и они за него ручаются, за Тэджуном, которому на тот момент уже было почти четыре, хорошо присмотрит, ну и сам омежка не пропадет, ему сейчас нечем было платить за квартиру и позарез нужны были деньги, ведь раньше он жил за счет брата. Юнги был не против и сказал, чтоб передали омежке, пусть заходит к нему на разговор. Так он и познакомился с Адлеем.
Симпатичный и миловидный на лицо, с густой волнистой шевелюрой и длинной линией беззащитно тонкой шеи. Чем именно, Юнги не взялся бы утверждать, но этот парнишка напомнил ему его Белоснежку. У Адлея, когда он улыбнулся, засветилась ямочка на одной щеке, хоть у Техена ямочек и не было, добрая, смущенная улыбка все равно вызвала воспоминания о нем. Какая-то определенная деталь или детали — Юнги внимательно и беззастенчиво разглядывал омегу — приближали его облик к образу Техена. А в памяти Мина, отнюдь незаинтересованного омегами, Белоснежка оставался тем единственным, кому удалось ему приглянуться. Но таких уникальных, как Техен, больше не имелось, и из-за того, что Адлею получилось напомнить ему о его мальчишке, он сумел этим добиться некого расположения Юнги, который согласился взять его на работу.
Так они и начали жить вместе. Тэджун новым нянькой был доволен, а сам Адлей, живя в квартире главаря якудз, поначалу хоть и чувствовал сильный дискомфорт, позднее смог привыкнуть жить бок о бок с самим Юнги, общество которого трудно было вынести. Не потому, что якудза делал замечания, ругал или специально вселял страх. Он вообще ничего не делал. Казалось, даже не замечал присутствия омеги в своей квартире. В дневное время Юнги редко находился дома, а по ночам, и то не всегда, когда объявлялся, то тихо проходил в свою комнату, чтобы немного поспать (Адлей поражался, как якудзе удавалось сохранять ясно функционирующую голову при двух-трех часах сна) и уже на заре уйти по делам. А потому что сам Юнги являлся сложной личностью. Его — не будь даже многочисленных шрамов и забитых под завязку татуировками рук — устрашающий мрачный вид с сильной давящей аурой усмирял, вселяя ужас.
Адлей иногда украдкой наблюдал за ним, когда Юнги, пребывая в хорошем расположении духа, уделив внимание Тэджуну, мог ненадолго повозиться с ним. Наверное, только тогда властный образ якудзы немного смягчался. И Юнги больше на человека становился похожим.
Во всяком случае, Адлей его по-тихому боялся, как и все в окружении Мина, робел в его присутствии, потея и нервничая. Особенно не по себе делалось по утрам, когда бывало, что Юнги не уезжал на рассвете и заходил на кухню. Тогда, пока он, усадив неугомонного Тэджуна на высокий стульчик, готовил им всем завтрак, Юнги молча присаживался за столик и буравил своими узкими, пугающе холодными глазами его скованную от напряжения спину, вызывая табун непрошенных мурашек. Адлей боялся, когда тот его так открыто и в упор рассматривал, потому что не понимал, что это значит.
А потом эти липкие откровенные взгляды участились. Юнги, стоило им пересечься, ронял с ним пару слов, что всегда склонялось к тому, как поживает Тэджун, и не нужно ли ничего самому омеге, а затем долго оглядывал его с головы до пят.
Разум вопил об опасности, неоднозначно расценивая эти оценивающие взгляды альфы. Где-то внутри он понимал, к чему все это ведет. Понимал, но противостоять этому не мог. Ему некуда было податься. Его некому было защитить. И для себя Адлей тогда решил, что когда наступит тот день Х, он не станет противиться и сопротивляться Юнги. Может, тогда якудза его пожалеет и поведет себя с ним более благосклонно.
Тем не менее, как он не пытался внутренне к этому неминуемому событию подготовиться, жилки перед Юнги продолжали трястись. Ему страшно было даже представить себе, каково это будет — делить с ним ложе, учитывая, что прежде Адлей не имел опыта никакой связи с альфой.
Из-за постоянного стресса и страха оказаться пойманным врасплох, парень днями ходил сам не свой, вздрагивая каждый раз, стоило в доме появиться Мину.
Тот, в свою очередь, прекрасно видел, что творится с омегой, но сознательно забавлялся с ним, продолжая нервировать и томить ожиданием — оттягивая момент. Юнги вообще развлекала реакция омег на него. Они все панически его боялись, но стоило ему бросить хотя бы короткий взгляд в их сторону и незаметно ухмыльнуться, как они все, робея, подчинялись ему. И, дрожа со страху, отдавались, когда он того желал. Ни один из омег не смел ему отказать.
Адлей не был исключением.
Однажды вечером, когда Юнги выдалась возможность оказаться дома пораньше, чем ночью, он дождался, пока омега уложит Тэджуна спать, затем, не дав ему уйти к себе, схватил за запястье и без слов повел в свою спальню. Закрыл за ними дверь и обернулся к побледневшему от ужаса омеге.
Адлей гулко сглотнул, отступил вглубь комнаты и обнял себя руками, боясь, что вот сейчас сердце точно не выдержит натиска и перестанет стучать.
Он столько раз прокручивал эту сцену у себя в голове перед сном, думал выстоит, не будет сопротивляться, даже не пикнет, а на деле оказалось, что представлять и переживать — разные вещи. Когда альфа подошел к нему и, загнав в угол, откуда уже некуда было деться, дотронулся до него, явно давая понять, с какими целями, Адлей беспомощно расплакался и попытался уйти от прикосновения.
Успокаивать и уговаривать по-хорошему, быть нежным и понятливым Юнги не умел. Всё это претило его холодной, хищной природе, но, тем не менее, он попытался и не быть слишком резким и грубым. Проявив снисхождение только потому, что Адлей ему нравился... нравился, ведь напоминал собой Техена.
Когда, преодолев его слабое сопротивление, — на большее у омежки не хватало ни сил, ни решимости, — раздев, уложили его на постель, Адлей честно признался, что у него никого не было, и ему страшно. И стыдно. Юнги внял, коротко кивнул и сделал то, что крайне редко делал во время секса, не имея желания заниматься прелюдиями — поцеловал его, установив с ним какую-никакую интимную связь. Адлей на поцелуй не ответил, но был до того удивлен, что вылупил на него свои слезливые не верящие глаза, полностью замерев. У него в голове не укладывалось, что такой сухой, сдержанный, как глыба льда, человек снизойдет до поцелуя и не станет сразу переворачивать его на живот, чтобы бездушно отодрать сзади.
На этом, собственно, «доброта» Юнги и закончилась. Готовить его, растягивать и подолгу возиться с омегой он не собирался. Немного помяв края узкого отверстия, он размазал головкой капли предэякулята по анусу и, плюнув вдогонку, чтобы облегчить вход, пальцами сильно оттянув края дырки, пропихнул внутрь член.
Трахал он его размашисто и медленно, не переходя на сильные толчки и быстрый темп. За что Адлей, лежащий под ним, вытянувшись в струнку — одеревеневший и вспотевший, был признателен. Не бьет, не насилует как животное, и то хорошо. А так, он кое-как дотерпит. Только слезы, что каплями одна за другой скатывались по вискам и стекали в ушную раковину, было не остановить. Обида душила, заставляя задыхаться, и он, не решаясь поставить руки на плечи нависшего над ним Юнги, сжимал простыню и с трудом дышал, уговаривая себя потерпеть.
А когда все закончилось, Юнги, упрятав член в штаны, застегнул ширинку и, плюхнувшись рядом на постель, велел ему собрать вещи и пойти спать к себе.
Будь они в отношениях, такое сильно задело бы омегу, но сейчас единственное, что Адлей почувствовал, когда ему сказали уйти, это бесконечное облегчение.
Ожидаемо, единичным перепихоном не обошлось, и через неделю Юнги снова взял его к себе в постель.
Первое время, пока Адлей привыкал к нему, он не решался дотрагиваться до него во время процесса и только лежал послушным куском бревна, абстрагируясь от того, что происходит. В начале всегда бывало больно и тяжело, пока он, перебарывая себя, вынуждал расслабиться, чтобы не сделать себе же хуже, а потом, через минут пять, он приноравливался к темпу альфы, и даже испытывал что-то похожее на лихорадочное возбуждение. Кончить удавалось, если только Юнги под конец, толкаясь интенсивнее, надрачивал ему. Тогда Адлей, густо краснея и давя в себе стоны, чтобы и звука не пропустить, тихо кончал. После этого всегда становилось отвратительно неловко. Ему казалось, он предает себя, получая удовольствие с тем, кто без его согласия заставляет ложиться с собой. По утрам он не смел поднимать на Юнги глаза. Ходил понурый и глядел в пол, если выходило сталкиваться с ним до его ухода.
А потом, когда их секс зачастился, и Мин уже брал его в постель каждый раз, когда ночевал дома и не бывал в рухлядь уставшим, Адлей, сумев привязаться к нему, решался во время акта обнимать его за плечи и даже, когда ему удавалось кончить, в благодарность робко целовать. Не в губы, конечно, — он очень боялся, что якудза может отвернуться или нагрубить ему за это, — а в плечо или в руку, по-своему выражая ему свою нежность, что копилась в нем и не находила выхода. Он очень хотел полюбить Юнги, ведь тогда стало бы намного легче принять и простить... себя и его.
А Юнги видел и чувствовал эти изменения в омеге, и перестал выгонять его после секса в свою комнату, позволяя ночевать с собой. Хоть и спали они каждый на своей половине кровати. Лишней тактильности альфа не жаловал.
Учитывая, что Юнги ни разу с ним не предохранялся, то последующая беременность омеги не стала для них неожиданностью. Ребенка своего он, конечно, захотел. Мин сам вырос в большой семье с двумя братьями и считал, что его сыну тоже не помешает их иметь.
А Адлей, когда Юнги оповестил его о том, что они поженятся, расценил это хорошим знаком, посчитав, что если бы якудза был к нему совсем безразличен и не питал симпатию, то точно не стал бы этого делать. Он мог просто после рождения сына забрать малыша себе, как сделал это с Тэджуном, а его самого или оставить в няньках, или и вовсе выставить вон. Раз не поступал так, значит, он все же нравился ему, и Юнги хотел разделить с ним жизнь.
Они по скромному расписались, сыграв непримечательную свадьбу в кругу близких. И по этому поводу якудза помирился с родителями, позвав на торжество всю свою семью. Правильно рассудив, что ссора между ними затянулась, и пора бы с этим заканчивать. Чета Минов, узнав, что их сын женится и во второй раз собирается стать отцом, обрадовались и, не став дальше затягивать конфликт, пришла их поздравить.
Собственно, прознав об этой новости, поздравительную открытку вместе с подарком, что можно было недвусмысленно расценить как оскорбление, учитывая их неугасшую вражду, отправил ему и Чонгук. Хотя сам Юнги ничего не высылал ему на свадьбу с Техеном.
Война между ними не прошла с окончанием школы. Между ними сохранялся спортивный интерес, не позволяющий им остепениться и, наконец, перестать воевать. Они продолжали злопамятно отравлять друг другу жизнь, лишая себя покоя.
И уже в последующие годы, когда Чонгук сел на пост прокурора, укрепился на месте и разросся влиятельными связями, конфликт между ними перерос себя и обрел серьезные масштабы.
Эта вражда держала их в тонусе, придавала азарта и определенного толка, смысла в их существование, когда они могли проявить свою кровожадную сущность, пребывая в своей звериной среде. Мирное сосуществование было не для них. Им нужна была эта негативная подпитка.
Чон делал все возможное, чтобы на долгие годы упечь Мина в тюрьму. Бесконечно копал под него, подавал иски и по разным статьям затаскивал его по судам. Где честь Юнги отстаивала целая орда первостепенных адвокатов-якудз, способных снять обвиняемого с виселицы. Чонгук не сдавался, давил как мог, юристы выстраивали ухищренную защиту, и по итогу дело затягивалось на повторное слушание, а там и на годы.
Правда, в тюрьму посадить Юнги по одной из статей все же вышло. Триумфа не было. Чонгук нутром просек неладное. Оказалось, не зря. Отсидев два года, Юнги вытащили оттуда по условно-досрочному. Как Чонгук позже догадался, якудза позволил посадить себя не просто так, ему нужно было обзавестись кое-какими связями внутри колонии.
Конечно, Юнги мог организовать убийство Чона. В последний раз, на выходе из суда после громкого окончания его дела, он приказал своим людям взорвать тонированный мерседес Чонгука, как предупреждающий жест. И пожелай он убить прокурора, то якудзы на воздух подняли бы машину не когда она была пуста, а дождались бы, чтобы Чон сел в салон.
Чонгук тоже это прекрасно понимал. Стоя у себя в кабинете с равнодушно перекатывающейся на губах ядовитой усмешкой, он наблюдал, как горит его машина. Огонь, как прежде, неизменно успокаивал, вселяя в него чувство ни с чем не сравнимого торжества.
Заводить уголовное дело на Юнги за покушение на жизнь и порчу имущества он не стал, хотя, пожелай, Чонгук ухитрился бы раздобыть или сфальсифицировать достаточно доказательств, указывающих, что именно он — главарь якудз — являлся нанимателем. Зато круглый счет за свою тачку выставил ему.
Юнги, в свою очередь, тоже не расслаблялся, осознавая, что Чонгуку ничего не стоит устроить его смерть во время допроса. Чон располагал такой властью. На следующий день в газетах написали бы о том, что Мин Юнги, потомок династии Мин, старший сын и наследник корпорации Мин, повязанный с криминалом, умер от остановки сердца на даче показаний. Причина неизвестна.
Но убивать друг друга оба были не намерены, поскольку не желали прекращать эту затянувшуюся с подростковых лет вражду между собой. Получая от этого изощренное удовольствие, как от партии хорошего покера.
2033 год...
На повторном рассмотрении одного из незакрытых исков по денежным махинациям — отмывание денег с использованием торговых операций. За последние годы якудзы расширились, захватив разные сферы — Юнги, зная, что на выходе их будет дожидаться толпа журналистов, заявился на суд со всей семьей, издевательски демонстрируя светскому обществу поддержку родителей и этим давая понять, что за его спиной стоит не только криминальный авторитет, но и внушительная корпорация Мин, чей имидж не так-то просто было запятнать.
Юнги сидел на заседании суда, как надменный и бесстрастный король, обличенный в деловой черный костюм, рубашку и узкий галстук, с видом чистокровного аристократа, словно и не он был боссом криминальной группировки. Рядом с ним сидел его «адвокат дьявола». На первом ряду за ними — еще четыре юриста, что совместно вели его дело. На втором ряду чета Минов, Виен, его красивый супруг Адлей, чья неуловимая схожесть с Техеном вызывала у Чонгука стойкое раздражение. Он догадывался, почему Юнги женился на этом омеге. Рядом с Адлеем, расположился Тэджун, который уже в тринадцать лет имел идентичный со своим отцом жесткий прищур и суровые черты лица. Не было только Арирана вместе с двумя младшими сыновьями Юнги.
По завершении судебного процесса Мин с адвокатом пожали друг другу руки. Дело они выиграли. Когда Юнги встретился взглядом с Чонгуком и чуть заметно кривовато потянул уголок рта, Чон, не выглядящий ни разу расстроенным, вернул ему усмешку, хищно сверкнув насмешливыми глазами в ответ. Оба знали, что это вовсе не конец. Чонгук не сомневался, что еще возьмет свой реванш. Проигрывать он никогда не умел...