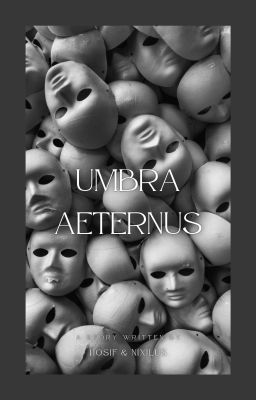Дорога туда и обратно
Небо над нами было выжжено солнцем, будто кто-то прожёг в нём дыру. Песок скрипел под колёсами. С каждым метром колонна тянулась, как раненая змея. Мы прошли город, за границей — точка назначения. Мы выгрузили ящики, подписали бумаги, получили сухие подписи, даже не взглянув друг другу в глаза. Никто не спросил, что мы оставили за собой.
Я стоял у грузовика, когда в голове снова зашептал Нихилус:
«Vide, umbrae se extendunt. Non sunt hostes, non sunt innocentes. Sunt tantum figurae in arena tua.»
(Смотри, тени растягиваются. Нет врагов, нет невинных. Есть только фигуры на твоём песке.)
Я сжал руль так, что побелели костяшки пальцев. Мои люди молчали. Кто-то молился, кто-то курил, кто-то просто смотрел на пустыню. Я видел, как новые линии прорезали их лица — морщины, что раньше не существовали.
Обратный путь начался на рассвете. Колонна выдвинулась медленно, как будто каждый километр тянулся через наше сознание. На песке ещё лежал дым. Птицы не пели. Ветер приносил запах гари и крови, хотя мы уже были далеко.
На перевале нас пытались остановить. Несколько человек с автоматами выскочили из-за камней. Но теперь мы были другими. Мои ребята действовали без слов — машины змеёй сместились, пулемёты хлестнули короткими очередями, гранаты улетели в камни. Нападавших не стало за минуту. Мы даже не остановились.
В кабине я говорил сам с собой, но отвечал мне Нихилус:
— Мы превратили город в пепел. Почему?
«Quia via quam sequimur est via lupi. Lupi non rogant cur. Lupi pergunt.»
(Потому что путь, которым мы идём, — путь волка. Волки не спрашивают, зачем. Волки идут.)
— А что будет со мной? — спросил я, чувствуя, как песок скрипит на зубах.
«Fiēs gladius sine manu, umbra sine corpore. Sed etiam umbrae lassantur.»
(Ты станешь мечом без руки, тенью без тела. Но даже тени устают.)
Я видел, как мои люди перестали смеяться. Даже шутки про дорогу исчезли. Мы ехали по глиняным дорогам через кишлаки, через рынки, где женщины с детьми прижимались к стенам, а мужчины отворачивались, когда нас видели. Мы были живой бурей, и они это чувствовали.
В одном селении нас встретили настороженно, но без оружия. Старик подошёл с миской воды. Я взял, отпил. Его глаза были пустыми, но в них отражалась колонна, как чёрная река. Я протянул ему свои сухие пайки. Он кивнул, даже не поблагодарил.
— Ты видишь, что мы оставляем после себя? — прошептал я.
«Sanguis et silentium. Hoc est semen tuum.»
(Кровь и молчание. Это — твоё семя.)
Ночью мы остановились у разрушенного караван-сарая. Люди легли прямо на ковры и мешки. Никто не пел. Только ветер гонял песок по плитам. Я сидел у костра и смотрел, как пламя выжигает тьму, а потом умирает.
— Ты ведёшь меня, — прошептал я, — но куда? К славе или в бездну?
«Enginn getur greint á milli. Sjórinn sem ber þig er bæði sigurs og dauða. Það sem skiptir máli er að þú munt lifa að eilífu í orðum og ótta.»
(Никто не может различить, куда ведёт путь. Море, что несёт тебя, — это и победа, и смерть. Но важно одно: ты будешь жить вечно — в словах и в страхе.)
В этот момент я понял, что даже обратная дорога — часть одного и того же ритуала. Мы везём не только груз, мы везём память, запах, страх. Мы сами стали грузом.
На третий день мы пересекли границу. Город остался позади, дым растворился в горизонте. Я довёл колонну до базы, сдал машины, оружие, отчёты. У меня оставалось тридцать пять человек. Они разошлись по казармам молча.
Я остался один в пустом боксе. Снял бронежилет, сел на пол. Руки дрожали. Внутри меня тихо шелестел Нихилус:
«Tempus est tibi videre quid factus es.»
(Время тебе увидеть, чем ты стал.)
Я закрыл глаза. Видел улицы, тела, огонь. Понимал, что каждая дорога — дорога туда и обратно, но назад ты уже не тот, кто был.
И я сидел так, пока ночь не перетекла в утро, а голос Нихилуса не затих, оставив меня наедине с собственным дыханием.