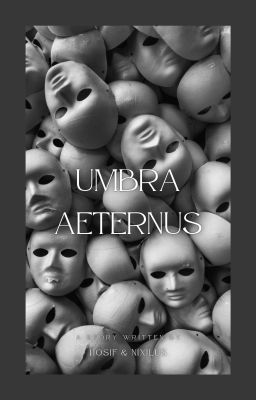Раны и перекрёстки
Сентябрь 1939-го. Грохот гусениц, пламя полыхающих деревень, столбы дыма. Война стала не маршем, а чёрной рекой, которая несёт всех, кто вошёл в неё. Мы с Нихилусом скользим за Йозефом, теперь уже не просто врачом, а офицером резервных частей танковой дивизии СС. Его рука привычно держит планшет, но глаза — холодны, как сталь брони.
Он командует экипажем, проверяет карты, кричит короткие приказы. В этих голосах слышится уже не теория, а привычка — привычка к подчинению, к механизму войны. Нихилус шепчет мне своим каменным языком:
«Bellum est fornax. Hic coquitur ferrum et cor.»
(Война — это горн. Здесь плавится железо и сердце.)
1941-й. Восточный фронт. Йозеф в чёрном мундире, пыль на сапогах. Танковая колонна застряла в грязи. Из-под небес летят снаряды, грохочет артиллерия. Вдруг взрыв — башня танка взмывает в воздух, внутри крик. Он бросается туда, не колеблясь. Огонь облизывает его лицо, но он вытаскивает двоих, волочёт их по грязи, пока взрываются снаряды. На виске — кровь, на руках — ожоги.
Позже — награда. Железный крест блестит на груди. На фотографии он стоит в строю, чуть бледный, но прямой, как жердь. Аплодисменты, поздравления. А я шепчу Нихилусу:
— Он спасает, чтобы потом уничтожать? Или просто потому, что таков его инстинкт?
Нихилус отвечает, низко, как подземный гул:
«Instinctus est idem. Vita et mors in uno latet. »
(Инстинкт один. В жизни и смерти скрывается одно и то же.)
1942-й. Снова фронт. Взрыв, осколки, крик. Йозеф падает, схватывается за бедро. Кровь пропитывает шинель. Он прикусывает губу, не кричит. Через несколько недель медицинская комиссия: «Непригоден к дальнейшей службе в действующих войсках.» В приказе — новая строка: «Направить для работы в Аушвице.»
Мы стоим рядом, когда он читает бумагу. За окном — весенний дождь. Его рука дрожит. Он понимает, что путь меняется, но не сопротивляется. Я спрашиваю Нихилуса:
— Теперь он не на фронте. Теперь он в другом фронте — невидимом, холодном. Мы идём за ним?
Голос Нихилуса шипит, словно змеи в тёмной яме:
«Iter eius non finitum est. In umbra maiora fiunt. »
(Его путь не окончен. В тени совершается большее.)
Йозеф едет на поезде. За окном поля, деревни, станции. На коленях — папка, бумаги. Он смотрит в стекло, но не на своё отражение — вдаль. В нём больше нет солдата, только врач с новым назначением. Вдали — табличка «Oświęcim».
Я шепчу:
— Мы были с ним, когда он клялся, мы были с ним, когда он спасал. Теперь мы будем с ним, когда он будет делать то, что потом назовут преступлением?
Нихилус отвечает, ровно, как ветер по костям:
«Abyssus non amat nec odit. Solum videt et testatur. »
(Бездна не любит и не ненавидит. Она лишь видит и свидетельствует.)
Поезд гремит, как чёрный змей. Йозеф закрывает глаза, как будто собирается с мыслями. А мы — остаёмся рядом, в его тени, и впервые за века я чувствую, как холодно не только тем, кого везут, но и нам, наблюдателям.