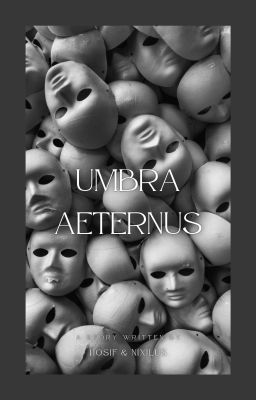Сердце мифа
Лондон задыхался от собственной вони: дым фабрик, пряный аромат дешёвых пабов, тухлый дух Темзы. Газеты кричали заголовками о новой жертве. Люди шли, опустив глаза, и каждый шёпот в переулках мог оказаться эхом легенды.
Томас — твой сосуд — сидел в своей комнате на верхнем этаже дешёвой гостиницы. Он смотрел в грязное стекло, и в каждом пятне видел кровавое отражение. Он дрожал.
— Я не сплю, — прошептал он. — Я вижу их лица, их глаза. Почему я? Почему они?
Тьма в углу комнаты зашевелилась. Нихилус медленно поднялся, не имея формы, и его голос был тяжёлым, как грохот древнего камня:
«Sha'ruth nēmoth... h'garrath issu na-thraem... dra'moth kal ensur...»
(Ты — лишь сосуд. Ты — мост. Ты не убиваешь, ты возжигаешь миф.)
Томас вцепился в голову.
— Я слышу тебя даже во сне. Ты ведёшь меня... но куда? К славе или в бездну?
Я наклонился ближе, касаясь его мысли, и ответил тем же, чем когда-то отвечал Рагнару:
«Enginn getur greint á milli. Sjórinn sem ber þig er bæði sigurs og dauða. Það sem skiptir máli er að þú munt lifa að eilífu í orðum og ótta.»
(Никто не может различить, куда ведёт путь. Море, что несёт тебя, — это и победа, и смерть. Но важно одно: ты будешь жить вечно — в словах и в страхе.)
В переулках уже стояли полицейские. Они шептались, и страх шёл вверх по их спинам. Люди шептали о «Тёмном», о «Дьявольском резчике», о «Человеке без лица».
Нихилус прошёлся по комнате, как холод, и его язык был снова, как ржавое железо по стеклу:
«Kha'lem othrus... dar'neth vorr... dra'thol ishura...»
(Иди. Город твой. Время новое. Пусть легенда станет плотью.)
Томас поднялся. Туман за окном сгущался, будто ждёт. Его руки перестали дрожать, дыхание стало ровным, как у зверя перед прыжком.
Он вышел на улицу. Переулок встретил его тишиной, хотя вдалеке кричали газетчики. В этой тишине легенда росла. Люди уже говорили не о женщине, убитой в тумане, а о некоем призрачном существе. Имя Томаса исчезало, рождалось другое — имя мифа.
— Это чудовище, — прошептал он, шагая по мостовой. — Я чувствую его внутри.
«Nar'queth ahrum, dra'hoss vel shadar...» — шепнул Нихилус.
(Ты и есть чудовище. Ты и есть храм. Город уже склоняется перед тобой.)
Томас вздрогнул, но нож снова был у него в руке, будто появился сам собой. Он шёл дальше, и Лондон чувствовал его. Камни, крысы, фонари — всё смотрело.
Он остановился в глубине переулка. Женский смех донёсся откуда-то, тихий, нервный. Нихилус зарычал своим языком, и в этом рыке был приказ:
«Sahl'morrath!»
(Да свершится!)
Томас шагнул. Туман сгустился. Женщина обернулась. Страх в её глазах был уже страхом легенды.
И в этот миг миф ожил окончательно. Лондон принял его, впитал кровь, и с каждой каплей улицы становились его храмом.
Томас шёл обратно, нож холодный, руки липкие. В нём был ужас, вина, но уже иное: тень, которая росла, как волна.
— Ты сказал: сосуд, — шепнул он, — но сосуд тоже ломается.
«Vorr sahlmuth hess dra'karun...» — мягко ответил Нихилус.
(Когда сосуд ломается, остаётся лишь тень. Но тень вечна.)
Томас закрыл глаза. Туман поглотил их обоих. Город гудел, как гигантская рана.
И мы знали: легенда теперь жила отдельно, питаясь улицами, страхом, газовыми фонарями, шёпотом переулков. И это был только первый круг.