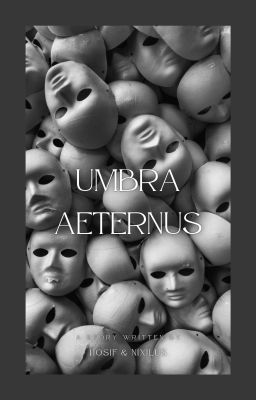Конец ночи
Склон замер. Метель чуть стихла, но снег всё ещё бил, как песок в пустыне. Последний из группы бежал, не чувствуя ног, оглядываясь на тень, которая преследовала его. Ещё двое, спотыкаясь, плелись следом, вцепившись друг в друга, будто в спасение.
Я чувствовал их дыхание, как пламя в морозе, чувствовал, как жизнь вытекает из них. Один рухнул, не выдержав холода. Он ещё шептал молитву, но снег уже забивал рот, и глаза стекленели, смотря сквозь меня. Второй, уронив товарища, шагнул назад, увидел меня и застыл. Его губы зашевелились:
— Ты... кто ты...?
Я шагнул к нему. Лапы оставляли тёмные пятна на белом. Мой голос был низким, как подземный гул:
— Я — тень. Я — миф. Ты сам меня сделал.
Он закричал, но крик был слабым. Я ударил его лапой — не клыками, не когтями, а как буря, как сам воздух, что давит на грудь. Он упал, и дыхание ушло, растворилось, будто никогда не было.
Последний бежал, спотыкаясь, плача, без обуви, с рваными руками. Он добежал до линии камней, обернулся. Его взгляд был не человеческим, а взглядом зверя, загнанного в угол. Я почувствовал жалость. Подошёл. Он упал на колени.
— Зачем... — прошептал он. — За что?
Нихилус говорил во мне, как чёрный колокол:
«Non quaeras causam. Historia non habet misericordiam.»
(Не ищи причины. У истории нет милосердия.)
Я наклонился. Его глаза были широки, как два бездонных озера. Я коснулся его лба, и жизнь ушла мягко, как дым. Снег упал на его лицо, и он стал частью перевала.
Все были мертвы. Тишина стала осязаемой. Я стоял в теле зверя, дыхание моё было тяжёлым, кровь тёплой на клыках. Нихилус шептал:
«Finis fabulae huius. Tempus est exire.»
(Конец этой истории. Пора выйти.)
Я посмотрел на лапы, на снег, на тела. Чудовище, которое было моим сосудом, дрожало, его силы иссякали. Я медленно поднял морду, завыл, и этот вой был прощанием.
— Я ухожу, — сказал я, — этот зверь сделал то, что нужно. Пусть легенда живёт сама.
Я вышел — не ногами, а духом, как дым из разбитой курильницы. Тело зверя содрогнулось, упало, застыло. Снег закрыл его, как крышка. Я поднялся над перевалом, над телами, над легендой.
Нихилус был рядом, но теперь он говорил не приказами, а тихо, как старый мудрец:
«Vidisti multum. A Babylonio ad nivem. Quid putas esse sensum huius itineris?»
(Ты видел многое. От Вавилона до снега. Как думаешь, в чём смысл этого пути?)
Я ответил, чувствуя в себе и боль, и пустоту:
— Я был оружием и мифом, богом и тенью. Я видел, как люди молятся, убивают, боятся. И каждый раз я становился их страхом. Но разве я меняю мир, или мир меняет меня?
«Forsitan utrumque,» — ответил Нихилус.
(Возможно, и то, и другое.)
Я зависал над перевалом, как облако. Тела лежали, снег шёл, ветер выл. Люди будут спорить, будут придумывать, будут шептать легенды. А я — уйду.
— Куда теперь? — спросил я.
«In silentium. In meditationem. Donec iterum vocaberis.»
(В тишину. В медитацию. Пока тебя не призовут снова.)
Я кивнул, хотя у духа нет головы. Мы двинулись прочь, оставляя позади трагедию и её холодный свет, и шагнули в вечность, где ждала медитация и долгий разговор о судьбах, о людях, о нас самих.