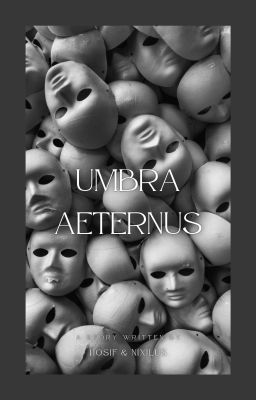Ускользающие
Туман стал плотнее, но внутри него открывались не просто вихри облаков, а целые коридоры эпох. Я держал штурвал, и чувствовал — кабина дрожит, как сердце зверя. Снаружи небо менялось: то серое средневековье, то оранжевый закат над Колизеем, то чёрные паруса каррамбел.
«Tempus non est linea, sed mare,» — снова напомнил Нихилус.
(Время — не линия, а море.)
Я видел лица своих ведомых. Их глаза были широки, дыхание рваное, губы дрожали. Они не знали, куда мы летим, но чувствовали: нас несёт за пределы того, что может вместить их разум. И тогда началось.
Первым исчез лейтенант Харрис. Его машина мигнула — и пропала, будто влитая в чужую картину. Я почувствовал, как его душа, слабая и мягкая, вырывается из потока, в котором я её держал. Где-то он упал в XIV век, в уличную грязь, где звенели колокола чумных городов.
— Они уходят! — закричал кто-то по радио. — Господи, они уходят один за другим!..
«Dominus hic non audit,» — тихо прошипел Нихилус сквозь меня.
(Господь здесь не слышит.)
Вторым ушёл Родригес. Его самолёт мелькнул в тумане, и я увидел, как он, обезумевший, падает в XVIII век — прямо на палубу пиратского фрегата. Там он станет призраком в чужом теле, новым морским мифом.
Я держал штурвал крепче. Я не терял их — я рассевал их. Как зерно. Каждого в свою эпоху. Каждого — к своему страху.
— Ты ведёшь меня... но куда? — прошептал я в этой пустоте. — К славе или в бездну?
Голос Нихилуса прокатился гулом винтов:
«Enginn getur greint á milli. Sjórinn sem ber þig er bæði sigurs og dauða. Það sem skiptir máli er að þú munt lifa að eilífu í orðum og ótta.»
(Никто не может различить, куда ведёт путь. Море, что несёт тебя, — это и победа, и смерть. Но важно одно: ты будешь жить вечно — в словах и в страхе.)
С каждым новым прыжком мы видели миры, которых никогда не знали. Короткий миг — и наши машины пронзают эпоху инков; ещё миг — и мы в чёрном небе Первой мировой. Из семи нас осталось трое.
Пилоты кричали, молились, кусали губы до крови. Но я чувствовал: их страх — музыка для Нихилуса. А моя воля — его дирижёр.
— Зачем мы это делаем? — спросил я его, когда туман окрасился в золотое. — Зачем рассевать их?
«Ut fabula tua crescat,» — ответил он. — «Non eritis squadron, eritis fabula, dispersa per saecula.»
(Чтобы легенда твоя росла. Вы не будете эскадрильей — вы станете легендой, рассеянной по векам.)
Остался последний рывок. Я чувствовал — теперь я сам решаю, куда шагнуть. Остальные ушли. Их машины растворились, их голоса стихли. Только я и Нихилус остались в этом серебряном тумане, вдвоём, как когда-то в лесах Тевтобурга, как в телах волка и травника.
Туман дрожал. В нём — тысячи дверей. За каждой — век, город, война, миф. Я мог войти в любую, взять любой сосуд.
Нихилус смотрел прямо на меня — не глазами, а тьмой:
«Nunc solus es. Tu tempus portas in manibus.»
(Теперь ты один. Ты носишь время в руках.)
Я отпустил штурвал. Мотор затих. Я больше не чувствовал тела пилота — только суть. Я, Нихилус и бездна между веками.