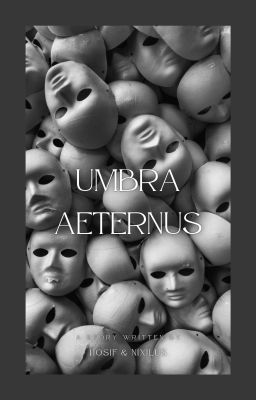Шёпоты убийств
Туман опустился на море, как серый саван. Паруса висят тяжёлыми крыльями, верёвки скрипят, доски стонут. С тех пор, как я занял это тело, «Мария Целеста» медленно распадалась на куски страха и легенды. Теперь легенда начала оживать.
Сначала исчез боцман. Утром нашли только его нож, воткнутый в борт. Потом — юнга: его сапоги стояли у люка, а самого не было. На третью ночь — кровь на палубе, отпечатки босых ног, ведущие к борту и обрывающиеся, словно он пошёл по воде.
Матросы начали шептаться. Я видел их глаза: белки, прожжённые бессонницей, губы — в крови от прикусывания. Они шептали, что на корабле нечистый. Они шептали, что кто-то ходит по палубе по ночам, хотя все каюты закрыты. Я слышал их слова и кормил их страх.
В ту ночь, когда погиб третий, Рагнар... нет, не Рагнар — я — поднялся из каюты в чужом теле. Я чувствовал, как мои руки, ставшие чужими, сжимают поручни. Шторм ломал мачту, а в голове звучал голос:
— Это мы, — сказал Нихилус. — Это мы делаем, чтобы они помнили. Страх рождается из крови.
— Но зачем им умирать? — прошептал я, глядя на тёмную воду. — Мы ведь могли просто уйти.
«Ut fabula nascatur, mors oportet.»
(Чтобы родилась легенда, нужна смерть.)
Я посмотрел на его пустые глаза внутри себя.
— Ты наслаждаешься этим? Ты радуешься?
«Ne confunderis. Non est gaudium, sed opus. Mors est lingua maris.»
(Не путай. Это не радость, а работа. Смерть — это язык моря.)
Я шёл между койками, как тень. Люди спали, но чувствовали меня. Они просыпались, не видя ничего, и задыхались от собственного страха. В чужом теле я ощущал дрожь — не свою, их.
Наутро матросы собрались на палубе. Их лица были серыми, глаза — пустыми. Капитан держал в руке пистолет, но рука дрожала. Он пытался сказать молитву, но язык заплетался. И тогда я услышал, как один прошептал:
— Мы прокляты... корабль проклят...
А я, внутри чужого тела, в ответ прошептал еле слышно:
«Navis umbra... abyssus vocat...»
(Корабль — тень... бездна зовёт...)
Шепот пронёсся по ветру, и матросы побледнели. Они не знали, что я сказал. Но знали, что это значит. Они начали видеть меня во сне: тень на носу, глаза, светящиеся из тумана.
Ночью мы с Нихилусом сидели в трюме, среди бочек и верёвок, и говорили — как когда-то с Рагнаром, как когда-то с травником.
— Ты заставляешь меня быть живодёром, — сказал я. — Ты заставляешь меня убивать.
«Non compello. Tu elegisti iter.»
(Я не заставляю. Ты сам выбрал путь.)
— Но ведь это не я. Это ты. Ты — чёрная кровь. Ты — голод.
«Ego sum Nihilus. Sed et tu es Nihilus.»
(Я — Нихилус. Но и ты — Нихилус.)
Я опустил взгляд на руки, запачканные смолой и кровью.
— Если я тоже Нихилус, то где кончаюсь я?
«Nulla linea. Mare diluit omnia.»
(Нет линии. Море смывает всё.)
Туман обволакивал трюм, как дыхание мёртвых. Я понял, что корабль стал храмом. Его доски хранили кровь, его снасти — крики, его паруса — мои сны. «Мария Целеста» превращалась не просто в миф, а в живую тень, плывущую по волнам.
Матросы, ещё живые, смотрели на меня с ужасом, и даже капитан, который раньше бросал вызов буре, теперь шептал молитвы. И я знал: ещё немного — и корабль станет пуст. А легенда — полной.
Мы с Нихилусом слушали, как море поёт через щели в бортах, и молчали.
— Ты доволен? — спросил я наконец.
«Fabula creata est. Nunc navis ipsa narrabit eam.»
(Легенда создана. Теперь сам корабль расскажет её.)
И я, глядя на чёрную воду сквозь щель, понял: я уже не человек, не дух, а сама история — история, что жрёт плоть и оставляет шёпот.