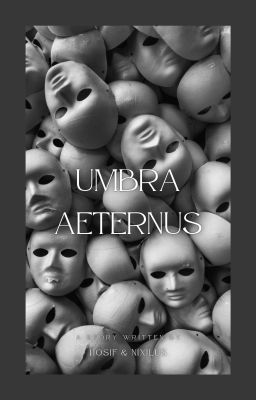Дни призрака
Соль въедается в кожу, парус трещит на ветру, а небо висит, как чугунная крышка. С тех пор, как я вошёл в тело матроса, «Мария Целеста» стала моим плавающим святилищем. Я учился ходить по доскам, чувствовать качку, говорить чужим голосом, но внутри — я оставался собой.
Первые дни были тихими. Команда смеялась, играла в кости, ругалась. Только по ночам они замечали: их товарищ стал иным. Его шаги — беззвучны, его взгляд — пуст, его дыхание — как ветер в расселине. Слухи начали гнить между ними, как трюмная вода.
— Что с тобой, Джон? — спросил боцман.
Я поднял на него глаза, и голос чужого моря хрипло ответил:
«Nulla pax est hic...»
(Нет здесь покоя...)
Боцман отшатнулся, выругался. С этого момента на меня смотрели, как на дурное предзнаменование.
Нихилус шептал мне сквозь рассохшиеся балки:
— Пускай их страх растёт. Пускай их вера ломается. Море любит легенды. Мы создаём её сейчас.
Я ходил между спящими матросами и чувствовал их сны: один видел чёрных птиц, другой — горящие города, третий — свою мать с пустыми глазницами. Их страх был моим дыханием.
На третий день шторм поднялся внезапно. Вода лилась в трюм, паруса рвались. Команда бегала, орала, а я стоял на носу, чувствуя, как Нихилус смеётся во мне.
— Ты ведёшь меня... — прошептал я, поднимая лицо к небу, — но куда? К славе или в бездну?
Голос Нихилуса разорвал гул ветра, как раскат:
«Enginn getur greint á milli. Sjórinn sem ber þig er bæði sigurs og dauða. Það sem skiptir máli er að þú munt lifa að eilífu í orðum og ótta.»
(Никто не может различить, куда ведёт путь. Море, что несёт тебя, — это и победа, и смерть. Но важно одно: ты будешь жить вечно — в словах и в страхе.)
Слова его плыли по палубе, как чёрная вода.
Ночами я выскальзывал из каюты, обходил корабль, прикасался к ржавым орудиям, верёвкам, к мокрым доскам. С каждым касанием легенда густела, как штормовые тучи. Люди начали исчезать. Один упал за борт — или был толкнут? Другой не проснулся. Третий бежал по палубе, крича, и вонзил себе нож в грудь.
Я видел это глазами человека, но чувствовал — как дух. В этих жестах рождалась новая мифология.
— Мы создаём призрак, — сказал Нихилус, — а не только историю. Когда корабль дойдёт до порта, он будет пуст, но полон нас.
— Это не заточение? — спросил я. — Мы — внутри досок, внутри тумана, как в клетке.
«Mare est carcer et libertas simul.»
(Море — это тюрьма и свобода одновременно.)
Сквозь бури и кровь мы с ним спорили о судьбе. Он учил меня: легенда сильнее тела, страх — сильнее меча, а море — сильнее любых стен.
На шестой день на палубу вынесли бочонок вина, чтобы снять напряжение. Матросы пили, а я смотрел, как их лица меняются, как их руки дрожат. Они не знали, что корабль уже не их, что он принадлежит мне и Нихилусу.
Внизу, в тёмном трюме, я начертал на доске углём слова:
«Vocatus... abyssus... navis umbra...»
(Призван... бездна... корабль-тень...)
Ветер гудел в снастях, и чайки кричали, будто души погибших. «Мария Целеста» уже становилась тем, чем должна — не судном, а призраком, шёпотом моря.
И я — в её сердце, в её тени, в её легенде.