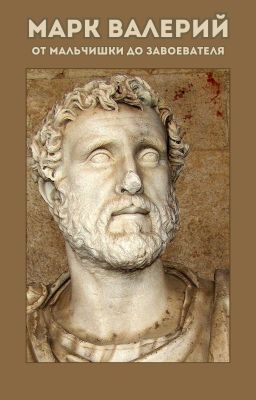Глава XXXVI Пепел Хараха
Горы Согдианы, чьи пики, как копья Ахурамазды, пронзали небо, обнимали Харах, последний город кочевников, его глиняные стены, высеченные в скале, сияли под холодным солнцем. Узкие ущелья, где можжевельник, пахнущий смолой, цеплялся за камни, вели к городу, их тропы, усеянные щебнем, скрипели под сапогами. Горные маки, алые, как кровь легионеров, дрожали на ветру, а камыш, высокий, как копья, шептался у болот за горами. Снежные барсы, чьи глаза горели, крались в тенях, беркуты, паря, кричали, а болотные цапли, с крыльями, как пепел, взлетали над топями. Воздух, ледяной, пах снегом, смолой и дымом, что поднимался над лагерем римлян. Марк Валерий, трибун Третьего легиона, стоял у лагеря, где орлы сияли, его алый плащ, рваный, колыхался. Его глаза, тёмные, как воды Тибра, изучали Харах, чьи башни, увенчанные рогами, дымились. «Харах — последний щит Согдианы, — думал он, сжимая гладий. — Аршак клянётся в союзе, но его сабля — змея». Легион, три тысячи человек, усиленный тремя сотнями согдийских лучников Тамира и тысячей парфянских конников, был измотан горами. Гай Корнелий, командующий первой когортой, шагал рядом, его шрамы, заработанные в Дакии, блестели. — Аршак — скорпион, трибун, — сказал он, хриплым голосом. Марк кивнул: — Его жало близко. Осада Хараха началась на рассвете, когда маки алели. Глиняные стены, высокие, как храмы Рима, окружали город, их башни, с лучниками, пели. Онагры, собранные в лагере, скрипели, их камни, как молнии, дробили стены, пыль поднималась, как буря. Баллисты, с болтами, пахнущими смолой, поджигали шатры за стенами, их шёлк, расшитый звёздами, пылал. Легионеры, с тестудо, копали траншеи, их лопаты скрипели в камне, а согдийские лучники Тамира, с малыми луками, били с холма, их стрелы, как осы, сражали стражу. Парфянские конники, на флангах, скакали, их сабли звенели. Харах, город кочевников, был лабиринтом: улицы, узкие, пахли кожей и пряностями, вели к базару, где ковры гнили. Храмы, с куполами из глины, хранили огни, жрецы, жгущие можжевельник, молились. Дома, с плоскими крышами, ютились у стен, их окна, затянутые шкурами, дрожали. Дворец, с мозаиками орлов, возвышался, его рога сайгаков сияли. Жители, с впалыми щеками, ели корни, их дети, в рваном шёлке, плакали. На третью ночь, когда беркуты молчали, осаждённые, под командой воина с татуировкой барса, ударили. Их кони, низкорослые, скакали, луки пели, стрелы били в лагерь. — Вылазка! — рявкнул Гай, его винис стучал по щитам. Легионеры, с пилумами, сомкнули тестудо, их щиты гудели. Тамир, с лучниками, выпустил стрелы, их рой сразил коней. Кочевники, числом в двести, ворвались, их сабли рубили, но легионеры, с гладиями, резали, кровь текла, как маки. Гай, с первой когортой, сразил лучника, его стрела застряла в щите. — Назад, псы! — крикнул он, его шрамы блестели. Вылазка провалилась, кочевники, потеряв половину, бежали к стенам, их крики эхом отдавались. Легионеры, с орлами, стояли, их потери — десяток — лежали у костров. Марк, с перевязанной рукой, сказал: — Они слабеют. Онагры, бить! На десятый день, когда можжевельник дымился, онагры пробили брешь, пыль поднялась, как завеса. Марк, на коне, скомандовал: — Тестудо, к бреши! — Легионеры, с щитами, двинулись, их шаги гремели. Гай, в первой линии, рубил гладием, его доспех был в пыли. — За Рим! — крикнул он, сразив кочевника с косой. Согдийские лучники Тамира, с холма, били, их стрелы поражали стражу башен. Парфянские конники, скача, отвлекали, но их глаза, как у лисиц, искали путь. Легионеры, с лестницами, взобрались на стены, их пилумы пробивали кожаные доспехи. Кочевники, с копьями, дрались, их татуировки блестели, но гладии, как серпы, резали. Гай, с когортой, прорвался к башне, его винис сверкал. — Орлы вперёд! — рявкнул он, сбрасывая лучника. Марк, с гладием, рубил, его плащ был в крови. Стены пали за день, их башни дымились. Улицы Хараха, узкие, как ущелья, стали ареной боёв. Кочевники, с саблями, бились, их крики смешивались с воем цапель над болотами. Легионеры, с тестудо, давили, их пилумы пробивали двери. Гай, с первой когортой, прорвался к базару, его гладий сразил воина, чья татуировка орла пала в пыль. — Держать строй! — крикнул он, его шрамы были в крови. Тамир, с лучниками, били с крыш, их стрелы, как звёзды, падали. Бои длились три дня, улицы, где ковры гнили, стали реками крови. Кочевники, с копьями, бились, их жрецы, жгущие можжевельник, падали. Легионеры, с гладиями, резали, их орлы сияли. Потери росли: триста римлян пали, пятьсот кочевников легли у храмов. Марк, с перевязанным плечом, рубил, его глаза горели: «Харах наш!» На третий день боёв, у дворца, где мозаики тускнели, Аршак, в чешуйчатом доспехе, ударил. Его сабля, с нефритовой рукоятью, сверкнула, целив Марку в спину. — За Согдиану! — крикнул он, его борода колыхалась. Марк, чуя тень, обернулся, его гладий блокировал, но Аршак, быстрый, рубанул, царапнув доспех. Легионеры, в тестудо, дрогнули, кочевники, с копьями, ударили, их луки пели. — Предатель! — рявкнул Марк, его кровь текла. Гай, с первой когортой, прорвался, его пилум пронзил стража Аршака. — К трибуну! — крикнул он, его гладий сверкал. Он метнул копьё, попав Аршаку в плечо, тот взвыл, его сабля упала. — Беги, скорпион! — рявкнул Гай, рубя кочевника. Марк, с гладием, встал, его глаза, как угли, горели. — Гай, ты мой щит, — сказал он, его голос дрожал. Аршак, хромая, бежал, его воины, с татуировками, прикрывали. Аршак, с кровоточащим плечом, скакал через ущелье, где можжевельник дымился, его конь, низкорослый, ржал. Тропа, узкая, вела к болотам, где камыш шептался, а цапли кричали. «Марк — буря, — думал он, его борода была в пыли. — Но я, как тень, уйду. Болота укроют, Ахурамазда даст мне месть». Его воины, десятки, гибли, их стрелы, как звёзды, падали. Аршак, скрывшись в камыше, исчез, его сабля тонула в топи. Легионеры, с орлами, прорвались к дворцу, их гладии рубили. Кочевники, с копьями, падали, их жрецы, в шёлке, молились, но огонь храмов гас. Гай, с когортой, сразил военачальника, чья коса упала. — Харах наш! — крикнул он, его винис сверкал. Марк, с перевязанным плечом, вошёл в дворец, его шаги гремели. Жители, с впалыми щеками, сдались, их дети плакали. Марк приказал: — Пощадите. Это Рим. На базаре, где ковры дымились, Марк, с орлами, объявил: — Тамир, сын Ардака, наместник Согдианы! — Тамир, с татуировкой орла, шагнул, его коса блестела. — Я служу Риму, — сказал он, его голос был как ветер. Марк, вручив ему свиток, сказал: — Согдиана твоя. Сохрани её. — Тамир, с глазами, как степь, кивнул. Лейла, сестра Тамира, в шёлке, с косами, как ночь, вышла из шатра. — Ты свободна, — сказал Тамир, его голос дрожал. Лейла, обняв его, заплакала, её слёзы, как маки, сияли. «Согдиана жива», — подумал Тамир, его лук, лежащий рядом, молчал. Я, Марк Валерий, стою в дворце Хараха, где мозаики орлов тускнеют, мой гладий, в крови, тяжёл, как судьба. Харах пал, его стены, как кости, дымят, его улицы, где маки смешались с кровью, молчат. Зарин, Ашхар, теперь Харах — Согдиана моя, но за что? Траян, в Риме, пьёт вино, его свитки велят мне бить, но я вижу лица легионеров, падающих под стрелами. Гай, мой щит, спас меня, его шрамы — как карта Рима. Аршак, скорпион, бежал, его сабля — мой долг. Харах — не конец, его болота, где цапли кричат, хранят врага. Я вижу Рим, его мрамор, но он далёк, как звёзды. Легионеры, с их хриплыми голосами, — мои братья, но я, как орёл, один. Тамир — мой меч, его Согдиана будет жить, но я, трибун, иду дальше. Аршак, твой след — как дым, но я найду тебя. Юпитер, дай мне силу, пусть Харах — мой триумф, а Рим — мой дом. Марк, в претории, где свечи пахли воском, сказал Гаю: — Веди когорту, найди Аршака. — Гай, с винисом, кивнул: — Его болота — не щит. — Он повёл тысячу легионеров, их пилумы звенели, в ущелье, где камыш шептался. Тропа, узкая, вела к болотам, их топи, пахнущие гнилью, пугали. Гай, с гладием, шёл, его шрамы блестели: «Аршак, твой яд кончится». Марк, у ворот Хараха, объявил: — Парфяне, вы свободны. — Конники, с саблями, ворча, ушли, их кони скакали в степь. «Они — змеи», — подумал Марк, его глаза сузились. Он призвал согдийцев, тысячу воинов, с татуировками орлов, вышли. — Служите Риму, — сказал он, его голос гремел. Их луки, малые, пели, их кони ржали. Тамир, как наместник, сплотил их, его коса сияла. Марк остался в Харахе, где снег падал, как пепел. Легионеры, в домах, чинили доспехи, их костры, с можжевельником, дымились. Хлеб, скудный, делился, сайгаки, пойманные, жарились. Марк, в дворце, писал свитки, его перо скрипело: «Согдиана наша». Легионеры, у огней, пели, их голоса смешивались с воем барсов. Зима, холодная, как гладий, ждала.
Мысли Тамира после назначения наместником
Я, Тамир, сын Ардака, из клана Орла, стою на базаре Хараха, где дым можжевельника смешивается с запахом крови и пепла. Глиняные стены, потрескавшиеся, как моя судьба, смотрят на меня, их тени, как духи предков, шепчут. Моя коса, заплетённая шнуром Лейлы, колыхается на ветру, татуировка орла на груди жжёт, как угли. Марк Валерий, римлянин, чьи орлы сияют, назвал меня наместником Согдианы, его голос, как гром, эхом отозвался в моём сердце. Свиток, что он вручил, тяжёл, как мой долг, но Лейла, моя сестра, свободна, её глаза, как степь, сияют. Согдиана, моя мать, жива, но я — её сын или её предатель? Базар, где ковры, расшитые звёздами, гниют, молчит. Харах пал, его храмы, где жрецы жгли можжевельник, дымят, его улицы, где маки смешались с кровью, стонут. Я вижу Лейлу, её косы, как ночь, её руки, тонкие, как ирисы, что ткали ковры в шатре близ Зарина. Она обняла меня, её слёзы, как роса, окропили мою кожу. «Ты вернулся», — шепнула она, но я, Тамир, вернулся ли? Мой лук, что пел для Рима, молчит, его стрелы, как звёзды, били кочевников, но каждая — для неё. Я предал клан Орла, их проклятья, как вой барсов, жгут, но Лейла жива, её песни, как ветер, спасли меня. Марк, чей гладий быстрее ветра, дал мне Согдиану, его глаза, как воды Тибра, видят мою душу. Он верит, что я, сын степи, сохраню его победу, но Рим — цепи, его орлы — чужие. Я клялся служить, мой голос, как лук, натянут, но сердце моё — в шатре, где мать молится у огня. Согдиана, с её горами, где барсы крадутся, с её болотами, где цапли кричат, — моя кровь. Я наместник, но кто я? Вождь, что ведёт народ, или пёс, что охраняет лагерь? Аршак, скорпион, бежал в болота, его сабля, как мой позор, тлеет. Я не предам Марка, но Согдиана, её маки, её звёзды, зовут. Мои воины, с татуировками орлов, смотрят, их луки, малые, но смертоносные, ждут. Я сплотил их, как Тамир, сын Ардака, но они шепчутся: «Он римлянин». Клан Орла, чьи шатры дымились в Зарине, не простит, их духи, как беркуты, парят надо мной. Я должен укрепить Харах, его стены, как кости, должны стоять, его базары, где нефрит сиял, должны жить. Лейла, моя сестра, будет петь, её голос, как степь, сплотит народ. Я построю Согдиану, где дети не плачут, где кони, как ветер, скачут. Но Рим, его мрамор, его сенат, далёк, его тень, как снег, холодит. Зима близко, её дыхание, как гладий, режет. Марк зимует в Харахе, его легионеры, с хриплыми голосами, чинят доспехи. Гай, чьи шрамы — как карта войн, гонит Аршака, его пилум — мой долг. Я, наместник, останусь, мои стрелы, как звёзды, будут охранять. Лейла, ты свободна, твой шатёр, где маки растут, — мой дом. Согдиана, прости меня, я предал тебя, но спас. Ахурамазда, дай мне мудрость, пусть мой лук поёт для народа, а не для орлов Рима.