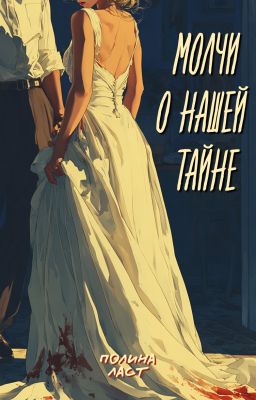Глава четвертая
ИЛЬЯ
Первая осенняя слякоть превратила задний двор больницы в непроходимое море грязи. Старый дворник уволился ещё полгода назад, не выдержав отсутствия зарплаты и тяжёлого труда, и без него дождь быстро размыл осевшую за лето городскую пыль и комья земли, отпавшие с колёс скорой помощи. Мораль внутри меня назойливо жужжала слова институтских преподавателей: «Больница должна быть чистой везде: от территории, до умов её врачей». Но циничный реализм жестоко отрезал: «Может сам выйдешь мести двор за копейки, раз так любишь стерильность?»
Я ежился от промозглого ветра и воровато огладывался, докуривая третью сигарету. Прохудившийся свитер, натянутый под белый халат вопреки всем нормам, не спасал от холодного осеннего ветра. Хотя, может быть, меня трясло не от переменчивого Питерского климата, а от страха?
От тихого шуршания колёс по моей спине пробежали мурашки. Чёрный джип въехал на территорию больницы, и в его неторопливом движении читалась наглость, будто больница уже стала его полноправной территорией. Тонированное стекло медленно опустилось, моё бледное отражение превратилось в бритоголовое чудище с кривым ломанным носом и надменной усмешкой. От одного его вида в горле встал горький желчный ком, и вязкая слюна не смогла его подавить. Гога — не имя, погоняло, кличка, как у пса; но на цепи сидел я, а не он.
— Ну, че, дохтор, принёс?
Я не стал его поправлять, хотя замена «доктора» на «дохтора» навевала мне мысль, что кто-то обязательно должен сдохнуть от моих рук.
— Принёс.
Из-за пазухи я вытащил свёрток. Обычный чёрный пакет с подогнутыми краями он небрежно кинул с на соседнее сидение, и я невольно поморщился, представив, как тонкое стекло ампул разбивается, крошится, впивается в тонкий полиэтилен, а обезболивающие растекаются и теряют свою цену. Гога достал из бардачка конверт и протянул мне. Но стоило протянуть руку, как конверт в злой насмешке упал на землю.
— Пересчитывать будешь?
— Нет, вы же честные люди.
Остатки гордости не позволили кинуться к земле, как шавка, которой бросили долгожданную сахарную косточку. Гога жаждал унижения, голод читался в его мерзких поросячьих глазках, но я и так был достаточно унижен ничтожной зарплатой, невозможностью жениться на любимой девушке и постоянными упрёками в свой адрес, чтобы падать на колени за деньги.
— Ладно, дохтор, бывай.
Машина взвизгнула от резкого старта, уши неприятно заложило. Как только внедорожник скрылся за поворотом, я нетерпеливо поднял конверт с земли и оторвал клапан. Три месяца мы списывали сильнодействующие обезболивающие в реанимации, делали назначения мертвецам, переписывали время смерти. Всё ради трёх миллионов, которые лежали в конверте стотысячными купюрами.
Этого чертовски мало. Каждая обнаруженная пропажа могла стоить мне свободы, но я жадно перебирал в руках мягкие купюры, которые никогда бы не заработал, просто выполняя свою работу, возвращая людей с того света. Человеческая жизнь стоило дёшево, за смерть платили куда больше.
Я знал, что обкрадываю своих пациентов. Знал, что поставки лекарств происходят с перебоями и завтра обезболивающего может не хватить тому, кто действительно в нём нуждается. Но деньги были нужней: билеты, жильё, еда; едва начав подсчитывать расходы на побег, я слышал хруст невидимых банкнот, которыми был выстлан путь к свободной и счастливой жизни. Для покупки счастья нужно что-то солидней врачебного жалования.
Первые сутки я провёл в операционной, вторые отдежурил в реанимации. Руки и ноги забились от усталости, глаза, раздражённые бессонными ночами, хотелось беспощадно растереть до лопнувших капилляров. Мышцы уже давно не болели — в теле осталось лишь желание рухнуть на диван и больше не вставать.
Быстро закончив вечерний обход, я тихо вошёл в сестринскую. Если врачей в больнице осталось мало, то медсёстры превратились в вымирающий вид. Когда я был интерном семь лет назад в сестринской всегда царил шум звонких женских голосов, теперь сидела одна Наташа, скрючившись над документами.
— Твоя часть, — я отсчитал пятьсот тысяч и аккуратно вложил в стопку бумажек.
— Он всё забрал?
— Всё.
Наташа судорожно втянула воздух в лёгкие, схватила деньги и спрятала в декольте. Пугливая и богобоязненная, она бы ни за что на это не стала мне помогать, но дома ждали две дочери и муж, получающий зарплату продукцией фабрики. Мы плыли в одной лодке семейных обязательств.
— Ты правда решил уходить?
— Да, Натусь, — стоило произнести это в слух, как сердце сжалось от странного стыда. Мы несколько лет проработали плечом к плечу, а теперь я бросал боевую подругу в этом мире маленьких зарплат, нехватки коек и самоотверженной помощи другим. — Мне будет тебя не хватать.
— Мне тебя тоже... — Наташа улыбалась, но её глаза, окружённые едва заметной паутинкой ранних морщинок, излучали печаль и влажно блестели.
Я не знал, как её подбодрить, как предотвратить скопление крупных слезинок в уголках глаз и куда сбежать от сентиментального прощания, безжалостного и душераздирающего. Впереди ещё две недели работы и меньше всего мне хотелось провести их в молчаливой печали, точно призрак уже исчезнувшего человека, которого проводили в последний путь, но ещё не избавились от его незримого присутствия в каждой детали.
Но Наташа, видно, и сама хотела оттянуть неизбежное: поднялась с места, засуетилась, дергано открывая ящички и шкафчики, перекрывая гробовое молчание грохотом, стуком, шуршанием колёсиков по рейкам; и положила на стол коробку с вафельным тортом
— Возьми Саше домой.
— Да ты чего! — От беглого взгляда на глянцевые буквы, тиснённые на рыхлом картоне, далёкий почти забытый вкус шоколада и дроблённых орешков осел на языке, но я не смел хвататься за лакомство. — У тебя своих детей двое, я не возьму.
— Бери-бери, — она подтолкнула коробку в мою сторону, и мне пришлось её схватить, чтобы хрупкие вафли не разбились о кафельный пол. — Мужу ими зарплату выдали, девочки не обеднеют, а ты сына порадуешь.
По-хорошему, стоило отказаться — в семье Наташи ртов несоразмерно много её щедрости. Хрустальная вазочка дома полнилась разноцветными драже: дешёвый шоколад растворялся мыльным осадком на языке, оболочка неприятно скрипела, словно яичная скорлупа. Саша пробовал одну разноцветную конфету каждый день и каждый раз выплёвывал, убеждаясь, что вкус не изменился. Рука сама легла на коробку, стоило представить его счастливую улыбку, искреннюю, по-детски широкую и непосредственную.
— Спасибо, Наташ.
Она отмахнулась, помогать другим давно стало частью её сердобольной натуры, и ей не требовалась благодарность, как итог, важен лишь процесс, участие, маленький вклад в чужую жизнь, засчитывающийся плюсиком в карму. Мы торопливо попрощались, без преждевременных сантиментов, стрелка часов неумолимо стремилась к восьми утра, смена закончилась, и сонный анестезиолог уже заступил на службу вместо меня.
Я запрыгнул в припаркованную у больницы Волгу. Машина досталась мне по наследству от дедушки, и старый мотор заходился кашлем и фырчаньем, точно древний старик, испускающий хриплые вздохи, но жадно заглатывающий воздух, не желая расставаться с жизнью.
Мысли, разбережённые отсутствием сна, метались по черепной коробке. Машина была неплохой; служила мне верой и правдой, избавляла от утренней давки в метро и спасала от холодных кусачих ветров; но она не шла в сравнение с тонированными иномарками, которые постепенно заполняли, как и я не мог соревноваться с их стремительно обогащающимися владельцами. Неказистый, бедный, старый, с прицепом и без перспектив — отец Сони не нашёл бы ни одного лестного эпитета, чтобы описать меня. Я рушил его планы на единственную дочь: толкал её не бунт, подвергал опасности, не давал удачно выдать замуж за сына делового партнёра или отправить на другой континент поближе к американской мечте, подальше от разграбленных руин большой страны.
Площадь перед вокзалом казалось удивительно пустой. Будто сегодня отменились все поезда, будто никто не хотел возвращаться в Петербург, запрыгивать в пыльное такси и разглядывать через мутное немытое стекло старинные улочки, полнившиеся стихийными рынками, вычурными граффити, попрошайками и бездомными. Город душил, сжимался удушающим кольцом, полным спёртого воздуха и сгущающейся чужой власти.
Очередь перед кассой была небольшой, и, пока пенсионеры скупали билеты на пригородные электрички и собирались закрывать дачный сезон, я разглядывал расписание поездов дальнего следования. Города рассыпались перед глазами мелкими точками, что по памяти я расставлял на старой карте невидимые точки городов: тех, где мы смогли бы жить, но в тоже время достаточно далёких, чтобы Роман Анатольевич не смог до нас дотянуться, позвонить браткам, вернуть нас силой.
— Куда направляемся, мужчина? — проскрипела кассирша, заторможенно взмахнув густо накрашенными ресницами.
Я последний раз взглянул на расписание, последний раз представил карту и судорожно пробежался по ней взглядом. Я слепо ткнул выбором в далёкий уголок, сдал паспорта и свидетельство о рождении.
Свежие купюры я обменял на путёвку в новую жизнь.
***
Родители держали дачу в часе езды от Питера. Раньше мы приезжали сюда для отдыха — мама, выросшая в колхозе, не хотела копаться в земле и высаживала только ягоды. Теперь на месте зелёных лужаек появилась рыхлая земля с ровными грядками. Скромных пенсий едва хватало на жизнь, и теперь мы дружно ковырялись в огороде, лишь бы получить пару мешков с картошкой, морковкой и свёклой.
Я смотрел на аккуратный домик, на грядки, где раньше стояла большая беседка, разобранная мною на доски в прошлом году. Здесь я обдирал кусты малины, читал книги по химии, прячась в тени от яркого солнца, и подслушивал взрослые разговоры, когда гости засиживались в беседке за ещё одним кусочком маминого пирога. Время безвозвратно ушло, и воспоминания о нём совсем не грели, их сладкий вкус перебивали горькие разочарования взрослой жизни, тяжёлые осенние тучи, скрывшие солнце, и надвигающаяся тоска.
Воспитание не позволяло мне оставить престарелых родителей без помощи, уехать без предупреждения, отправить им письмо с места. Я оттягивал этот момент, боялся их реакции, точно школьник, принёсший замечание в дневнике, и выбирал кому же преподнести эту новость. После обеда отец забрал Сашку рыбачить на маленьком озере, а мы с мамой разбирали парники.
Мама долго молчала, нервно на меня поглядывала и кусала губы — чувствовала подвох и хотела что-то спросить, но не решалась произнести слова вслух. Я сворачивал мокрый спанбонд и трусливо ждал, когда она сама начнёт разговор, когда у меня появится повод нанести ей болезненный удар в область сердца.
— Илюшенька, у тебя всё хорошо?
— Да, мам, хорошо. Просто нам надо поговорить.
Мама рассеяно прижала к груди ткань, и влага, скопившаяся на парнике, теперь растекалась по его куртке большими пятнами, но тревога, охватившая материнское сердце, делала это незначительным
— Мы с Сашей уезжаем, — я мягко освободил её руки и с нежностью погладил огрубевшую, покрывшуюся морщинками кожу. — Надолго, может быть навсегда. Я пока не могу тебе все рассказать. Но я буду вам писать, буду присылать деньги по возможности, придётся ждать, но...
— Это всё из-за неё, да? — мама резко всплеснула руками и отшатнулась, обрывая мои успокаивающие увещевания. — Из-за этой девчонки? Из-за неё ты решил всё бросить, сорваться с места и ребёнка с собой увезти?
Она всегда называла Соню девчонкой: не девушкой, не подругой, не невестой, а лишь девчонкой, будто её юный возраст не позволял любить серьёзно и всем сердцем.
— Её зовут Соня, — Усталое напоминание перекосило вымученную улыбку. — Не из-за неё, но она тоже поедет с нами.
— Илюш, ну это же не дело. Вы друг друга мучаете, и ребёнка тоже... У Саши тут друзья, садик, ему в школу через два года идти. Кто тебе там помогать будет? А работу ты где найдёшь? Отпустил бы ты девочку. Она себе кого-нибудь найдёт, Саша маленький и легко от неё отвыкнет, а ты сможешь наконец жениться на хорошей подходящей...
— Хватит! — резко рыкнул я, оборвав её на полуслове. — Прекрати! Я не спрашивал твоего дозволения! Я просто предупредил, чтобы вы были готовы к нашему отъезду! Я всё решил, твои слова уже ничего не изменят!
Внутри всё кипело. Я уважал её возраст, уважал материнское желание до последнего оберегать мою жизнь, чувствовать себя важной фигурой, всё ещё авторитетной, всё ещё способной что-то изменить. Я был к ней терпелив, но методичное втирание соли в открытые раны разъело моё спокойствия.
Она походила на гарпию, что приземлилась мне на плечи и впилась когтями-упрёками в плечи, но стоило дать ей отпор, как воинственность испарилась, сменилась старческой беспомощной обидой: она глянула на меня бледными, почти бесцветными глазами, полными слёз, и дрожащими морщинистыми руками вновь принялась за парник. Хорошо, что отец сейчас на рыбалке — он бы отвесил мне подзатыльник за материнские слёзы, невзирая на мой недетский возраст.
— Мам, мамочка, — я обхватил её худые ссутуленные плечи, заставив оторвать взгляд от земли, и выдавил мягкую примирительную улыбку. — Прости, пожалуйста, я не хотел на тебя кричать, устал, перенервничал...
— Я же просто хочу, чтобы ты был счастлив, — она громко шмыгнула носом, так нарочито, что я едва не покривился от её актёрства. — Ты жизнь свою ломаешь ради этой... Сони. Ты думаешь тебя где-то ждут с распростёртыми объятиями? Работу найдёшь? Жильё получишь? Ты вроде такой взрослый, а жизни ни черта не понимаешь.
— Мамочка.... Почему ты не можешь просто меня поддержать? Мы уедем, я на ней женюсь, устроюсь на работу, заживём как белые люди...
Мама невесело хмыкнула и вывернулась из моих рук.
— Её отец – бандит. Ты думаешь, что он так просто вас отпустит? Он тебя за свою дочурку из-под земли достанет или к нам придёт...
— Придёт – скажешь, что давно меня не видела и не знаешь где я, — тяжёлыйвздох невольно вырвался из груди. — А если меня достанет, я сам с этим разберусь.