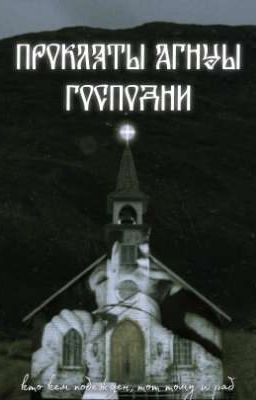А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;
так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
(Мф.23:27-28)
Cemetery
music: Черна Мати — Шунема
Umbraya Erze — Theodor Bastard
— Да помощи у тебя прошу, через нечистого, через супостата, через дьявола. Беса зову. Беса окаянного, да внутри сидящего. Не во имя отца, сына, не во имя духа святого. Выходи.
Выходи, приказываю.
Ядовитый шёпот разрезал кладбище, помыкая взбунтовавшимися листьями и, кажется, её кровью. Потому что внутри всё кипело.
— Да я помру без него, а не с ним, — Мариам делает шаг назад, но едва не спотыкается о крест.
— Без него? — Парень замолкает, но лишь на секунду. Потом головой качает, раздраженно продолжая. — Зато вместе вам дуже хорошо. Если б я тогда не влез — тебя бы за тем сараем и...
Руки зажигают фитиль слишком поспешно, а лицо кривится, будто тот сдерживает ругательство. Не хотел тыкать в недавний случай, ведь помнил её взгляд. Блеклый, но полный невысказанной просьбы, словно единственный, кто мог повлиять на ситуацию — он. Не бес, не Бог, не справедливый суд. Чернокнижник.
— И... оставили. А дружок твой сидел бы рядом и любовался. Им только в радость крики слушать.
— Но раньше же помогал!
— Свечи алтарные гасить? Вот уж подвиг, — пробормотал, закатив глаза от девичьей глупости. — Ты ему на хрен не сдалась, поэтому не бузи, дай как лучше сделаю.
И продолжил бормотания свои монотонные, пугающие.
В венах забурлил огонь прямиком с адских кругов, а грудная клетка задрожала в спазме. Ведь нечто глубокое, зарытое под кожу, сейчас нагло тревожили, заставляя показаться и выступить чёрным пятном в радужке.
Кладбищенские сумерки смазались, а внезапное прикосновение чернокнижника к руке вызвало жжение. Хотелось откинуть ладонь, вырваться, уйти, убежать, да хоть по земле кубарем прокатиться, лишь бы не видеть перед собой угольных омутов. Таких похожих на её собственные, но сейчас раздражающих до белого каления.
Почему он решил за неё?
Нет, какого хуя даже посмел предположить, что может вмешиваться в её существование без причин и объяснений? Только и умеет хмыкать, советы раздавать да править. Самонадеянно.
— По ногам, по рукам выходи, через меня, через тело, через дух.
Дыхание дрожало.
Нет. Нельзя беса вытаскивать. Нельзя.
Она попыталась дернуть пальцы, но конечности не слушались, словно ими заправлял кто-то ещё. Голову пронзила колючая резь, и все мысли сгинули, рассыпаясь.
А когда перед взором встало мелкое, прямоугольное зеркало в волнистой, потрёпанной окантовке, девушка и вовсе отвернулась. Больно. Раздражающе. Выворачивает внутренности. Особенно если поглядеть на дрожащее отражение. Потому что себя она не узнавала. Взгляд другой, на веках синева мёртвая, а кожа бледная-бледная, цепляющая слабые отблески серого неба.
Всё естество бунтовало и раздваиваться не хотело. Срослось так, что простыми начитками не выведешь, как ни пытайся.
— Глаза бы разул сначала, — из её горла вырвался то-ли хрип, то-ли насмешка.
И ведь чувствовала, как скрипят связки, и слова слышала, но... Сама бы и не подумала такое сказать.
Владислав не замолк, только продолжал взывать к дьяволу упорно, без единой заминки.
В нос ударил запах гнили, слишком настойчивый, чтобы не сморщиться. Мариам качнулась, когда вмиг всё замерло. И листья на ветках, и движения. Стало оглушительно тихо.
А потом наставник отшатнулся, сжав зубы. И озарило его такое понимание, что аж брови взметнулись вверх, а ноги безвольно сделали шаг назад. Только сейчас, погрузившись в ситуацию, в энергии и её личность, понял. Бес-то не просто так работать с ним отказался — у него был путь, у девушки долг, начерченный кровью, который предки не погасили, и вмешиваться в этот процесс... Нельзя было. Бесполезно. Опасно. Если не для неё, то для него самого.
И как должен это вычислить? Он что, архивариус? Или прабабке в гроб заглядывал? Он работает с ощущениями, а не с семейными легендами. Но надо было раньше насторожиться. Когда сила не слушалась, когда сопротивлялась. Когда съедала её изнутри, но не уходила, что ни предложи. А паренёк думал — просто тварь с характером. Смешно.
Идиот.
И самое страшное — не в ней дело. В нём. В том, как бормочет начитки с видом наставника, но внутри дрожит, что ошибётся. Потому что уже ошибался. Не раз. Потому что уже бывало: вытаскивал, а потом молился, как бы самому вытащиться, но никто за руку не дёргал и не пытался направить. И коль не сделка — давно бы висел. А теперь вот...
И девчонка эта... Чёрт бы её побрал. На него похожа. Злая. Сломанная. Упёртая. Только он сдохнуть хотел, а она — выжить. Вот в чём разница.
— Блять.
Одно лишь мужское ругательство задело замерший погост.
Воспитанница чувствовала себя отвратительно — под кожей до сих пор горело, а кости ломало так, что, оперевшись на крест, она согнулась пополам, кашляя. В горле стоял липкий комок, а виски зажимались тисками. Все размышления сошлись на коротком желании присесть и отдышаться. Поэтому, запачкав платье землёй, опёрлась на то же деревянное изваяние безымянной могилы.
Вдох. Выдох. Вдох.
— Чего ж ты не сказала, что у тебя родовой? — Чернокнижник произнёс это глухо и отвернулся, с какой-то заметной неуверенностью прикапывая свечу. Шептал свои начитки, лишь бы не видеть, как девушка дрожит.
Надеялся хотя бы завершить ритуал правильно.
— Да откуда я... — она зашипела, пытаясь собрать глаза в кучу. Кресты расплывались, а в груди всё ещё с яростью клокотали остатки влияния дьявольщины. Следующая фраза вырвалась порывом честным и твердым. — Конченный ты.
И это был отнюдь не вопрос.
Секунды шли в ожидании, что тот огрызнётся как обычно. Рассмеётся. Назовёт дурной. Но он лишь стиснул зубы, будто проглотил слова, царапающие глотку. Словно и правда верил, что заслужил. И почему-то от этого осознания стало ещё противнее. На миг. Потом ладони закрыли лицо, давая телу момент темноты и передышки.
Сердце ходило ходуном.
Тук-тук.
Тук-тук.
Быстро.
Аж в черепушке пульсирует. Выматывает.
А когда взор обратно подняла, тот сам собой наткнулся на едва заметный блеск в земле. Ключ? Но... Откуда? Может, этот бесноватый выронил, пока зеркало доставал?
Неважно.
Собеседник был занят чем-то своим, а девушка подалась вперёд, ухватившись за небольшую отмычку. Дрожащими руками сунула в карман платья и попыталась встать, мол, «всё так и должно быть, я тут просто равновесие ловлю».
Ноги держали хозяйку некрепко, пришлось облокотиться ладонью за ближайший крест. Владислав поднялся через десяток секунд.
Так они и остановились, рассматривая друг друга с подозрением и напряжением. Что дальше?
Думать было сложно: всё путалось, и одна мысль прыгала вперед другой, не давая разложить по полочкам факты. Но воспитанница знала точно — теперь парню ничего не помешает испортить ей побег. Он может и монахиням рассказать, и нашептать всякого своего, из-за чего она воли лишится, как остальные. Потому что изгнание провалилось, а отпускать её с бесом внутри не хочет, сам сказал.
Но...
Всё почти готово. Ещё пару дней, и можно будет уходить, а лучше убегать так, чтоб пятки сверкали. И начать новую жизнь. Обычную? Чтобы можно было купить тёплые булочки с изюмом в ближайшей пекарне и идти по улице, бессовестно их жуя, чтобы ноги сами принесли на мост, где слышится шум реки Ли и в нос забивается солёный бриз. Она так делала в детстве. Шла длинной дорогой после школы, дабы поглазеть, как лодки плывут в гавань. Тихо тогда было. И по-настоящему.
А сейчас забылся вкус выпечки. Нос и вовсе, кажется, прожгло едким запахом порошка.
Кулаки сжались неосознанно. Пусть только попробует что-то выкинуть... Сам быстрее неё грешником и маргиналом прослынет.
Мариамна подалась вперёд резко и неожиданно, как никогда бы не сделала без острой нужды. Ведь стоять в шаге от мужчины, который минуту назад пытался вытравить из тебя последние силы... Страшно. Неприятно. Но необходимо.
Пальцы дёргают воротник тёмного бадлона с завидной скоростью — пару минут назад девица тряслась на земле, теперь же с удивлением рассматривает чёрную, въевшуюся татуировку. Крест да змеи, обвивающие его. Зачем такое? Для ритуалов?
Развить догадки не успевает — Владислав хватает её за запястье рефлекторно, пытаясь уберечь эту символику от чужого взора. Но поздно.
Проходит секунда в молчании.
На второй они встречаются глазами.
Его пальцы обжигают кожу, но не отдёргиваются сразу. На миг показалось — он тоже замер, будто удивлённый собственной наглостью. Трогать её. Да после всего.
На третьей раздаётся твердое:
— Отпусти.
На четвёртой, когда воспитанница отшатывается больше чем на ярд и вздрагивает так, словно тело на миг свело судорогой, повисает тишь. Она отряхивает руку, где чужое прикосновение до сих пор горит.
— Если попробуешь мне помешать, я расскажу монахиням.
Уголок его губ дёрнулся. Не злости ради — почти с одобрением, мол: «Вот ведь сука хитрая. Даже сейчас бьёт по больному».
— И они поверят. Смогут убедиться сами, — Английская речь прорезает погост. Голос почти не дрожит, фразы скользят быстро, привычно, как у человека, оттачивавшего оборонительные реплики в голове задолго до их произнесения. — А божьи люди не помечают себя, как маргиналы. Значит, ты вылетишь и потеряешь репутацию. Может перестанешь портить жизнь другим своими ритуалами... или что ты там творишь. Потому что это отвратительно. Думаешь, все тебе в ноги падать будут?
Продолжение появляется резко — импульс, но слишком правильный, чтобы остановиться. И прежде чем она успевает себя прервать, язык меняется.
— Нихуя подобного, — её русский звучит грубее, как плевок.
Шаг. Ещё шаг.
Мариам отступала к двери, ведущей обратно в стены приюта, под его молчание. В этот раз партия за ней, хоть и обернулась неожиданно. Но по глазам напротив видела — он знал последствия слов, если те, конечно, дойдут до матушки.
Раньше она не могла ничего противопоставить, даже если слышала русские заговоры, кривые молитвы, и приходилось только надеяться, что наставник не захочет околдовывать по каким-то своим причинам. Теперь переживать не нужно. Сама выберет как жить, и без всяких чернокнижников со странными ритуалами.
Ключ, по ощущениям, прожигал ткань в кармане. А может, это просто триумф играл с её нервами... Не столь важно. Главное, до побега остались считанные дни.
***
Следующее утро встретило её привычной работой и молитвами. Завтрак был мелкий — каша, похожая на воду, и, если повезёт, чай. Стуча ложкой о борт тарелки, Мариам проходилась взором по остальным. Случайно (четвёртый раз) спотыкалась на мужском силуэте, что сидел неподалёку от монахинь. За деревянной резной перегородкой на возвышенности. Как так можно? Ходить, обманывать всех, заставлять воспитанниц беспрекословно потакать идеям: «Труд. Искупление. Смиренность». А потом со спокойным лицом трапезничать явно не противной жижей. Наравне с остальными. Почему он со своим бесом там, а ей приходится выгрызать себе путь и идти против всего? Ради обычного спокойствия. Ради приличной жизни. Чтоб не сдохнуть, как собака.
Наставник, не обращал на неё внимания, хотя обычно они переглядывались. Незаметно так. Но... Это уменьшало чувство одиночества. Потому что тот знал про неё многое. Знал и не осуждал, в отличие от других. А девушка старалась не придавать этому большого значения, скрывая, что такие мелкие жесты помогали не утопиться в пучине однообразия и безнадёжности.
Чёрт с ним. Нужно было сосредоточиться на побеге, а не на глупых размышлениях.
Уже днём, вооружившись тряпкой, драила подоконники на втором этаже, когда послышались слишком шумные шаги. Воспитанницы так не ходят — привыкли незаметнее быть и не раздражать остальных. Тогда кто? Отодвигая несколько горшков с цветами и протирая под ними, прислушалась.
Лестница прогнулась под чужим весом, и показались две макушки. Светлая и тёмная. Девушки оглядывались, скользя рассеянными взглядами из стороны в сторону. В руках несли небольшие белые ящики со своей одеждой. Впереди шла сестра Виктория, направляя новеньких.
— Кладите вещи сюда и ждите, — безразлично произнесла женщина, указав на пол подле небольшого столика с распятьем. Потом заглянула в кабинет и через пару секунд вернулась. — Проходите, матушка Агнес примет вас сейчас.
Те аккуратно зашли. Пальцами сжимали юбку потёртого коричневого платья и переглядывались. Виктория закрыла за ними дверь и забрала коробки. Личные вещи никому здесь не позволялись, и их убирали куда подальше. Или уничтожали. Непонятно.
Мариамна сглотнула и стиснула зубы. Потому что знала, какие слова им там говорят. И как перевернутся эти жизни дальше.
«Философия приюта Магдалины очень проста. Благодаря молитве, чистому образу жизни, тяжелой работе, падшая душа может найти путь обратно к Иисусу Христу, Господу нашему и Спасителю. Мария Магдалина, покровительница приютов Магдалины, сама была худшей из грешников, отдавая за деньги свою плоть развратникам и сластолюбцам. Она искупила грехи, лишив себя всех удовольствий плоти, включая пищу и сон, работая тяжко. В конце концов, смогла представить Богу чистую душу, пройти через небесные врата и получить вечную жизнь. В нашей прачечной вы не просто стираете постельное белье, это становится земным средством очищения вашей души и способом выведения пятен, совершённых вами грехов. Здесь вы сможете искупить свою вину и спасти себя от вечного проклятья...»
Раздался глухой стук. Девушка невольно вспомнила дом, и это заставило сжать противную тряпку ещё сильнее.
Три года назад.
Улица казалась особенно странной. Вместо весеннего солнышка, что отбрасывало бы лучи на тёмную сланцевую черепицу, в небе текли нескончаемые облака. Пасмурно. В воздухе стоит запах сырости и трав, как после дождя. Подъездная дорога поблёскивает влагой.
Скрипя калиткой, девочка заходит на территорию, попутно оглядываясь. Деревья всё также растут, откидывая листья чуть ли не на крышу двухэтажного здания. Будто ничего не изменилось. Но в животе крутилось ощущение, что мир рухнул. И дом должен был рухнуть, и сад. Почему тут так тихо?
Ступая внутрь, только поправляет подол школьного платья. Где-то смятого и растянутого, неаккуратного.
Мать она находит на втором этаже, в родительской спальне. Комната не блещет уютом или теплом, в ней не хочется остаться подольше, поболтать. В ней не хочется даже улыбаться. Особенно сейчас. С теми словами на устах, что принесла дочь после сомнений, длиной в несколько часов.
Мариам смотрит куда угодно, лишь бы не в глаза женщине, что сейчас с постоянным своим усердием собиралась на вечернюю мессу.
Вот кровать двуспальная у стены стоит. Бельё, покрывающее жёсткие матрасы, безупречно выглажено и накрахмалено. На стене распятие. Висит, наблюдает, создаёт на коже неприятный зуд.
Заправляя за ухо тёмные, слегка намокшие от дождя волосы, девочка хочет что-то сказать. И уже даже открывает рот, как её перебивают.
— Опять провинилась? Нам выходить скоро, — Лидия, орудуя над плетёной причёской, повернулась, блеща скептицизмом. — Что в этот раз? Что с платьем? Влезла в драку? Учти, выстирывать всё будешь сама.
— Нет, мам, — пальцы ковыряли кожу вокруг ногтей с заядлым усердием. — Отец Пиллер... Я не виновата, честно. Ты поверь мне хоть раз. Я ничего...
Взгляд невольно опустился на женский комод. Гребень, розарий, потёртый от времени молитвенник. Никогда на дубовой поверхности не было беспорядка, хаоса. Словно та ни в жизни его не допускала, ни в мыслях.
На секунду повисло молчание, которое явно давило и заставляло продолжить говорить.
— Он трогал меня. В комнате для исповеди. Я... — голос всё же предал. Потому что стыд, отвращение, страх сидели под рёбрами, как кучка ржавых гвоздей, что ковыряли свежую рану. Хоть и не она была виновата, но тело помнило всё: как пахло его дыхание, мерзкий шёпот. И боль.
Мать медленно выпрямилась, нервно одёргивая крест на груди. Брови сурово сдвинулись. Лицо толком не изменилось, но на мягких чертах лишь проступила едва заметная брезгливость.
— Ты... что?
— Он трогал меня, — пробормотала тише, почти шёпотом, но прямо. — Сказал не говорить. Но я...
— Замолчи, — прошипела Лидия на чистом русском, смахивая с шерстяного платья несуществующую пыль. Будто действительно хотела отмыться от этого разговора. — Замолчи, Мариам! Ты даже не понимаешь, что сейчас говоришь!
— Я всё понимаю! Я не собираюсь молчать! Я расскажу учительнице. Или миссис Рид — она живёт рядом, она...
— Позор! — Женщина шагнула к ней, схватив за плечи. Аккуратные с виду пальцы вцепились, как клещи. — Ты хочешь, чтобы соседи смотрели на нас, как на прокажённых? И люди пальцем показывали? Болтали, думали, что ты... Ты наверняка придумала очередную сказку! Всегда хотела внимания... И решила опорочить такого доброго человека!
— Нет! — Дочь резко оттолкнула её. В угольных глазах мелькнуло что-то дикое, как и при каждой ссоре. — Я ничего не делала! Я помогала! Ты ведь велела! И я молчала, потому что не знала, как поступать! А теперь... теперь я просто хочу...
— Хочешь, чтобы нас выгнали из церкви? Твой отец... — и тут её тон сбился. — Чтобы он потерял лицо из-за тебя?
— Он не мой отец, — бросила Мариамна зло.
Потому что правда. Патрик никогда не был ей папой. Этот безразличный, вечно работающий индюк, расхаживающий в любезно разглаженных супругой костюмах, не стал бы её родителем. Даже если она видит его каждый день. Даже если носит эту проклятую фамилию «О'Дерван» и живёт под одной крышей вот уже семь лет.
— У меня только один отец. И он бы не позволил, чтобы со мной такое случилось. Научил бы отпор давать, помог бы, — слова выступали вместе со жгучими слезами на глазах. — А вы...
Девочка дрожала. Не от страха, а от ядовитой смеси злости и бессилия. В груди ходуном ходило сердце, так резво и оглушающе, словно хотело выпрыгнуть и доказать всем, что оно есть, что оно ещё бьётся и ему больно. Вдруг получится развеять эту тишину и растопить застывший, светлый взгляд из-под редких ресниц?
— Иди к себе и не смей выходить, — только и послышалось в ответ.
— Но...
— Иди.
Мариам ничего не сказала. Повернулась и вышла, стараясь не хлопнуть дверью — не из уважения, а из упрямства. Чтобы не дать ей удовлетворения и повода сказать: «Вот, опять ведёшь себя, как дикарка».
Ночь была холодной и сырой. По крайней мере, так она ощущалась телом, что тряслось под тяжёлым одеялом.
Колени упирались в пол. На тёмной тумбе перед кроватью стояло распятье, ещё давным-давно притащенное мамой.
— Если ты видишь всё, если смотришь, — язык сводило от напряжения. Девочка не привыкла говорить такое искренне, вдумчиво. — То... Позволь им увидеть. Я не виновата, я не грязная. Это он, всё он. Пусть поверят. Ну хоть кто-то.
Слова лились сбивчиво и иногда срывались на писк. Тогда Мариамна вертела головой, чтобы проверить, не проснулась ли сестра, а Элизабет, развалившись на соседней кровати только сопела, сбив набок русую челку.
— Если твой суд справедлив — ты знаешь, что я права. Не оставь меня. Пожалуйста.
Утром её подняли рано.
Без завтрака, без разговоров. Лидия не говорила ни слова, только поджала тонкие губы, когда вручила сложенные вещи.
Никаких объяснений не последовало, а во дворе уже ждала машина, гремя мотором. Девочка сначала не поняла — спросонья подумала, что просто едет куда-то, но дорога вилась всё дальше, а минуты растягивались, превращаясь в десяток, после — в целый час. Патрик сидел рядом с водителем и поглядывал на время. Ни разу на неё. Только на часы.
Но когда авто остановилось у высокого забора, живот свело паникой. Глухой камень, длинное здание проглядывалось через черные прутья, на соседней улице стояла серая церквушка.
— Что это?
— Не задавай вопросов, — коротко бросил отчим. — Это ради твоего же блага.
Она рванулась в другую сторону, но его рука легла на плечо. Не с грубостью. С холодной, стальной уверенностью. Мужчина был выше аж на две головы, и желание протеста сошло на нет, когда большая ладонь, подтолкнула её ко входу. Там с замком возилась монахиня.
— Делай, что говорят. И не позорь семью.
Из воспоминаний вывел недовольный голос матушки Агнес. Такой же скрипучий, как и три года назад:
— Чего замерла? Бездельем душу не очистишь.
Сморщилась, когда воспитанница отмерла и принялась натирать подоконник. Потом женщина поправила крест на груди и повела новеньких к цеху. Бусины её чёток щелкнули в звенящей тишине, смешиваясь с удаляющимися шагами.
***
Воскресенье подкралось слишком быстро, заставив сердце в напряжении стучать. Потому что не забылась сказанная мужскими устами фраза:
Ну ничего, в следующий раз продолжим,
да, Мари?
Продолжим. В следующий раз.
Она дрогнула, когда двери хлопнули, впуская группу людей со спокойными, почти доброжелательными лицами. У матери всегда похожее было. Притворно святое.
Забурлил привычный шум кротких приветствий. Только Мариамна вертела головой, едва сдерживая себя от того, чтобы не прокусить щёки изнутри. От волнения. И тошноты. Сначала просто смотрела на вход. Потом — будто невзначай оглянулась через плечо. Потом ещё. Каждые пару минут. Заставляла себя отвлекаться на пыльный свет, играющий на каменных плитах пола, на шепотки монахинь, которые разносились в заднем ряду. Но это было сродни пытке.
В прошлый раз Владислав помог, а теперь, после всех недавних событий, чётко осознавалось — сама ляпнула, чтоб не лез, поэтому и ждать чудесного появления больше не стоит. И ладно. Справится. Наверное.
Не поддаваясь всем успокаивающим мыслям, пальцы дрожали, словно знали правду: организм не железный и каркас бывает ломается от слишком тяжёлой ноши. Той, которую нельзя разделить с кем-то.
Женщина вышла на помост, раскрыв губы в обеспокоенной улыбке. Поправила свой значок и начала собрание мягким тоном:
— Мы рады, что снова можем вас увидеть. Это лишь значит, что Господь наш, Спаситель, благоволит вам в становлении на путь истинный, — она оглядела всех присутствующих. — К сожалению, брат Эвлан сегодня не сможет посетить наше собрание, из-за плохого самочувствия и я бы хотела, чтобы вы помолились за его здравие.
По залу прошёлся ропот, а потом губы воспитанниц раскрылись в выученных словах. Мариамна не произносила фраз — они забивались в горле и являться на свет не хотели. Потому что желать ему здоровья было бы ложью. Настоящей. От которой мерзко.
И лишь сейчас, когда сказали об отсутствии этого человека, девушка смогла расслабиться. Сразу коснулась спинки жёсткого стула, перестав вытягиваться по струнке, руки отпустили края сарафана и улеглись на колени, из груди вырвался осторожный выдох. Почти неслышный.
Это же случайность? Совпадение? Или...
Мысли сложились одна к одной слишком резво, будто внезапным озарением. Тот день неделю назад. Фраза. Владислав её точно слышал.
А теперь Эвлана нет.
Тело отреагировало раньше сознания — тёмный взор метнулся по залу резко и жадно, выуживая фигуру наставника в толпе. Тот о чём-то докладывал одной из монахинь, стоя около двери. Отрешённо. Неспешно. Словно пришёл совсем по другой причине.
Но глаза...
Когда их взгляды встретились — не нужно было слов.
Всё обожгло пониманием: без бесов не обошлось. Не доказала бы. Не объяснила. Но почувствовала. И в его радужке не мелькал вызов или раздражение, просто мимолетное признание, будто парень ничего и не пытался отрицать.
Мариам ощутила, как под кожей расползается напряжение, не от страха, нет. От чего-то куда глубже. От чувства, которое невозможно объяснить.
Он не Бог. Не ангел. И даже не друг. Но почему-то всё равно был единственным, кто что-то сделал. Хоть раз.
***
Сама бы не пошла к нему, но сегодня монахини настояли. Ведь от исповедей в церквях воспитанница всё ещё отказывалась, за что и прилетало. Как и становилось главной причиной для посещения его кабинета.
Душно.
Удивительно. Всегда ведь было открыто окно и ветерок впивался в волосы своей влажностью и свежестью, а потом гулял по комнате, придавая ощущение лёгкости. Даже когда шёл дождь, Владислав бурчал, мол: «Пусть сквозняк будет, а то от дыма свечей головешка кругом идёт». И оставлял.
А сейчас створки оставались чуть приоткрытыми, словно одно движение рукой — и станет как раньше. Приятно. По-родному. Но только это движение никто не делал.
Девушка опустилась на стул, быстро кивнув. Кабинет впитал в себя какую-то удушливую смесь горелого воска и старой мебели.
Повисло молчание. Слишком уж неловкое. И чем честнее она смотрела на их «отношения», тем очевиднее становилось: он теперь защищает себя. От неё.
Поэтому тишь. Все свои... Цели они закрыли. Мариам вроде как добилась желаемого, получила ключ, доступ к кладбищу и ещё один реализованный пункт в плане побега. А наставник... Сделал что мог, и чтоб дурнушку эту обезопасить, и людей вокруг неё. Да и свою шкуру в том числе. Потому что девица с бесом, который бесконтрольно шалит в голове, может стать угрозой, как его положению в приюте, так и мирному народу. Но изгнание провалилось. А на другие действия не было ни сил, ни времени.
Оконные рамы нервно стучали при каждом порыве ветра. Раньше и чириканье услышать можно было, и завывания петухов, смешивающиеся с шелестом листвы. Теперь только этот скребущий черепушку звук. Воспитанница не понимала, раздражает её ситуация или заставляет... Ну... Нет. Даже размышлять о таком не будет.
Она отбивала ритм пальцами, слегка стуча по поверхности стола, и в то же время рассматривала парня. Тот отвел взор куда-то к полкам и поджал губы. Может, обиделся? Или жалеет? Хотя нет. У расстроенных людей не такие синяки под глазами и отрешённый взгляд.
Тогда что с ним?
Сознание уколола резкая догадка. Больше, конечно, сравнение, но это не отменяло его странность. Помнилось, был день, когда её бес распоясался настолько, что и руки предметы не держали, и мысли уплывали, лишая сопротивления, эмоций. Оставляя тягучую пустоту, вперемешку с безнадежностью. И так отвратительно было, что даже в церкви рот не открывался, а колени предательски дрожали. Потом и вовсе свалилась в обморок.
Владислав тогда что-то предпринял. Вызвал. Поговорил. Решил. А кто всё это сделает для него?
А ему нужно?
Девичьи глаза сощурились, пытаясь осознать эту нелепицу. Он же... Всегда знал что делать. Да так кичился этим, прерываясь лишь на язвительные фразы, что верилось. И во всевластие его верилось, и в эту уверенность, живущую в ухмылке да лукавых зрачках. Сам же головы другим морочил! Пол приюта к своим рукам прибрал с помощью сил! Разве работает это в обратную сторону? Не может быть, что чернокнижник от бесов страдать будет. Если говорил, «Я умею платить. И умею ставить рамки, если надо», так чего чахнет тогда? Чего ни слова нормального не сказал? Дурак.
Хотя нельзя исключать, что после погоста, тот и смотреть на неё не хочет. Мариамна вообще-то оскорблениями кидалась и шантажировала, какой нормальный человек после такого общаться пожелает? Чтобы слова и слабости вновь против него обернулись? И правильно. Пусть молчит. Нечего от плана отвлекать. Ещё не дай бог доверять ему начнёт, надеяться. Связь — всегда слабость, всегда брешь, в которую можно бить. А окружающие это хорошо умели делать. Правильнее даже сказать, обладали призванием.
Но выдержать полчаса только лишь под треск деревянных створок не смогла. Проговорила, уточняя, хоть внутри ответ был очевиден:
— А брат Эвлан... — на миг сделала паузу, чтобы поймать его взгляд. Тяжёлый, холодный, — появится ещё?
Воздух стал плотнее.
— Надеюсь, нет, — проговорил парень, выдохнув и почесав подбородок.
На этом разговоры себя исчерпали. Хотелось как раньше про детство поболтать, про дворовые разборки наставника и лето в деревне. Про дождливый Корк и слишком странных людей. Да хотя бы обсудить монахинь и модные журналы, припрятанные в подсобке, которые Грейсин с удовольствием читает, пока воспитанницы морщатся от холодной воды в душе...
Она скучала — да. По беседам. По его насмешкам. По странной лёгкости, которую он порой создавал не в словах, а в тоне, в этих сдвинутых бровях, в манере откидываться на спинку, в презрении к приюту.
Но даже тоска была фальшивой, если смотреть правде в глаза. Потому что скучала не по человеку. А по функции.
Противно. И глупо.
И думать об этом глупо, и вспоминать.
Дернув головой, чтобы выбить несвойственные ей мысли, Мариам встала. Потом вышла через пару минут по приказу монахинь.
Дверь закрылась.
И пусть катится к чёрту своему. Не такой уж важный этот наставник.
***
Холодная вода стекала по пальцам, уже не вызывая покалываний или мурашек. Привычно. Вечерняя суета была тихой, но нервной. Новенькие всё ещё оглядывались, пытались понять правила или, наоборот, способы их обхода.
Мариамна лишь вытерла руки и поправила ночнушку, разглаживая светлую ткань безразличным движением. С воскресенья она украдкой наблюдала за Жозефиной. Что делает, с кем разговаривает, как себя ведет. Ведь с ней контактировать воспитанница резко перестала. Да, раньше тоже немного общались, но сейчас тишина стала совсем уж мёртвой.
Были случаи, что та, подходила перед самым сном, когда монахини ещё не тушили свет, и рассказывала тихо-тихо о ребёнке. О том, что увидеть его хочет и одним днём непременно сможет! Вечно теребила свой голубенький платок и заколку на нём. Словно это единственный атрибут прошлой жизни.
От силы раза два такое происходило с тех пор, как матушка отказала в подарке сыну. Но странная, резкая отрешённость накатила на неё чуть больше недели назад.
Девушка, поглядывая на знакомую, не сразу заметила перемен. Только через пару дней, когда лицо стало странно спокойным, без обычного прищура, а глаза утратили прежнюю тень надежды.
Нужно было выведать.
И вот, удача. К раковинам подошла ещё одна фигурка.
— Ты представляешь, — негромко проговорила Жозе, будто продолжая внутренний диалог. — Наверное, так лучше. Для него. Что я могла бы ему дать? Только позор и грязь. У них там... семья хорошая. Настоящая.
Вновь включился кран, смешивая этот монолог с приглушенным журчанием воды.
— Для кого? — переспросила на всякий случай.
— Для сына, — добавила та и прикусила уже потрескавшиеся, пухлые губы. — Я вот думаю... Господь, наверное, не зря так всё устроил. Видно, не моё это — быть матерью. Может, ошибка.
Воспитанница пожала плечами в ответ, чувствуя, как зубы сжимаются сами по себе. Ошибкой был не ребёнок, ошибкой была эта Жозе сейчас. Лишённая смысла, опоры, упования. Пустая. Осталась шелуха, повторяющая нужные слова. Наверное, другим в комнате даже спокойнее от такой её версии. Больше никто не слышит её слов про «сынка», никто не отворачивается с неловкой гримасой, не утешает.
Пусть. Не жалеть. Не сейчас.
Догадки, что (или лучше сказать кто) послужил такой резкой смене мнения, присутствовали. Но... Разве теперь это важно? Да, скребло под рёбрами, да, нагоняло жути, только вот не собиралась ли Мариам сделать то же самое? И не по воле бесов, а потому что решила поставить собственные желания выше чужих воспоминаний.
Внутреннему голосу пришлось быстренько заткнуться, когда вспомнилась цель всего этого действа. Свобода. Жозефина никогда бы не смогла сбежать, потому что слушала наставления монахинь и пыталась отмолить грехи. Хотела видеть дитя. Не уйти, не жить в нормальных условиях. Просто наблюдать за тем, кого произвела на свет.
В этом месте так не работает. Тут или всё или ничего, никаких полумер. Слабые остаются, сильные пытаются поменять свою жизнь. Если ты потерял единственную цель, то уже даже мелкие наивные радости не спасут. И заколка не нужна, и помнить не обязательно. Работай и молись, может, зачахнешь не так быстро, как от разъедающих внутренности горя и тоски.
Организм проснулся ночью, словно по расписанию.
Глаза распахнулись, узрев деревянные балки крыши и тонкую полоску лунного света из небольшого окна. Та, играя голубым поблёскиванием, падала на пол, повторяя линии установленных решёток. Тихо. Ветер за стенами не завывал, и доски оставались молчаливыми, подстёгивая мысли в голове крутиться активнее.
Возьмёт сегодня. Не завтра, не послезавтра, не в «удобный момент». Слишком многое совпало. Влад всё чаще исчезал, запутываясь в своих молчках, и девушка не хотела дожидаться момента, когда и ей начнёт казаться, что ничего страшного нет в смирении, в полном подчинении.
Он ведь может.
Может использовать, как остальных.
Вдруг в голову взбредёт, что она опасна, да пойдёт парень своих бесов кликать на кладбище.
Ну уж нет. Уйти нужно прежде этого его озарения.
Воспитанница поднялась на локтях, чуть откидывая тонкое одеяло. Огляделась. Привычная куча силуэтов лежала на койках, выстроенных в ряды. Кто-то сопел, кто-то изредка всхлипывал во сне. Новенькие и вовсе свалились без задних ног, как только произнесли вечернюю молитву. Жозефина уткнулась носом в подушку, отвернувшись в сторону выхода. Раньше бормотала во сне, едва размыкая губы, сейчас же помалкивает. Платок оказался повязан на спинке кровати и скреплён той самой заколкой. Её край блестел в тусклом свете, а длина была не больше мизинца. Зато детали острые и прочные.
Мариам встала, ступив босыми ногами на холодный пол. Привычные движения, натренированные побудками в ночи и постоянным ощущением опасности, давались легко: пригнулась, шагнула на край доски, проверила устойчивость, потом двинулась в сторону, касаясь половиц только носками. Присела рядом с кроватью Жозе. Секунду. Две. Ждала. Дыхание ровное. Спит.
Тело даже не вздрогнуло, когда пальцы коснулись прохладной металлической поверхности. Думала, сердце заколотится, рука подведёт — но нет. Щелчок был неслышным, лёгким, словно украшение каждый день расстёгивали таким жестом. И не один год.
Платок она повязала обратно, чуть сместив. Чтобы не сразу заметили пропажу.
И только потом — шаг назад. Второй. Плавный разворот. Липкий пол под ногами колол пятки, пока отступала.
Девушка вернулась на своё место, легла, но не закрыла глаз. Теперь было всё, что нужно. Осталось только сделать вылазку и проверить пристройку, где, по слухам, держали инвентарь для ухода за погибшими. Может, и одежда старая найдется и то, что не попадает в отчёты. Видно было, на кладбище монахини захаживали нечасто, поэтому пару дней взломанный замок повисит без внимания. И этого времени ей хватит, чтобы реализовать план.
Теперь свобода — не далёкое мечтание, а близкая, почти обжигающая цель, заставляющая мозг работать в два раза быстрее. Лихорадочно. С предвкушением.
Заколку она спрятала не в постель, не под подол, а в шов подушки, где давно распорот край. Это единственная щель, куда не совали руки сестры при досмотре.
Затем вытянулась на спине и уставилась в потолок.
Сон совсем не шел, но, вымотанная событиями дня, Мариам все же смогла задремать.
Темноту рассеивали образы. Поначалу незаметные, скользящие плотными сгустками туда и обратно.
Ноги сделали шаг. Примялась влажная трава. Когда сквозь дымку удалось разглядеть место, то в груди перевернулась склизкая масса. Всё те же безымянные кресты, воткнутые в землю с нарочитым пренебрежением, тот же тухлый воздух, забивающий глотку и веющий собачьей смертью.
Зато покалывание пробегалось по рукам, цепляя каждую фалангу и окутывая силой. Мозг сам по себе понял: «Вот почему Владислав здесь начитывал. Приятно колдовать. Мощно». Чьи пролетали мысли? Сама девка ни разу зеркало ритуальное в руках не держала, да губы в заговоре не размыкала. Но на погост тянуло.
Ступив вперёд, почуяла, как волосы, прикрывающие уши, взметнулись вверх из-за очередного порыва ветра.
Вдруг спину обожгло неприятной дрожью. Словно смотрит кто-то прям меж лопаток. Дёрнувшись, она обернулась, вглядываясь в знакомые пейзажи. Забор стоял так же глухо, а замок на воротах казался громоздким, больше, чем запомнился. Приют возвышался серым изваянием, над пиками крестов.
В руке мелькнул нож. Старый какой-то, холодный, но с острым лезвием, прижимающимся к бледной коже.
Пронесся резкий порыв: крови дать. Кому? Зачем?
Для силы. Для возвышения. Для платы.
Фразы пришли из неоткуда, но с настойчивым звоном расползались по черепушке. Будто и вправду лучше станет. Легче.
Одним движением она резанула край ладони, заставив алую жидкость сначала выступить мелкими каплями, а потом собраться в одну. Сорваться. Впитаться в гнилую землю.
Больно не было. Плечи обвило удовлетворением. Только непонятно, своим или чужим. Меж могил показалась белая маска с угольными глазками. Слишком знакомая для случайного образа из подсознания. Её рот растянулся в улыбке, и по светлой поверхности пошли трещины, словно кусочек за кусочком крошился гипс.
Так и сделаешь.
Шёпот протянулся отовсюду, и уже через секунду на кладбище осталась только она одна. И красные капли под ногами.