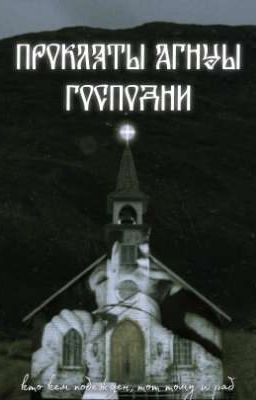Подай руку твою и вложи в рёбра Мои
Пока не увижу у Него на руках ран от гвоздей,
пока пальцем не потрогаю Его раны
и не суну руку Ему в бок — не поверю.
(Ин 20:25)
Утро ничем не отличалось от тысячи других, только вот подол жёсткого платья стал тяжелее. На деле меньше унции прибавилось, по ощущениям же — целый стоун (*Стоун (stone) = 6,35 кг). Мариамна прикрепила туда заколку, потому что побоялась оставлять её в комнате. Да, в подушке надёжнее, но, посмотрев на панику Жозефины после пробуждения, не смогла не перепрятать, ведь мысли: «Не нашли ли?», «А если решат поменять постельное и нащупают?», «А вдруг...» — не давали бы ей покоя и постепенно сводили с ума.
В знакомом до чёртиков помещении кипела работа. Вон в углу, за большим столом, кто-то сыпал порошок на кучу вещей, заставляя белые частицы трепыхать в воздухе и заползать в глаза, в нос, в рот, всюду, куда те могли добраться. Пыльная работа. Девушка иногда вспоминала, как в первые дни после стрижки её заставляли постоянно находиться в этой зоне, натягивать на половину лица странную повязку и, вооружившись деревянной лопатой, переворачивать тряпки, дабы хлорка, коей отбеливали все эти ткани, проникла между ними. Тогда дыхательные пути жгло неимоверно, а тёмные волосы покрывались серым слоем, что еле вымывался даже в душе. Жуть.
Перестав наблюдать, отвернулась к раковине, где покоились ещё не выстиранные воротнички, одежды. Пальцы сами взяли мыло и начали тереть пятна, хотя голова приказы не раздавала. Только подкидывала размышления о ладонях, на которых не было ни одного следа кровавых порезов. По ощущениям, они должны там находиться. Расчерчивать кожу, оставляя неровные края, и наливаться алой жидкостью. Кажется, сон был слишком реалистичным, раз его дымка не проходила уже полдня и въелась в мозг навязчивой картинкой.
Пришлось зажмуриться, чтобы сбить поток.
Потом с силой разлепить глаза.
Сбоку стояла новенькая — светлые волосы заплетены в тугую косу, ниспадающую на спину. «У Анны всегда похожая причёска была», — пронеслось на краю сознания. Хотя нет, у той тёмные пряди пышнее и выглядели прилично, даже несмотря на скромный уход за ними — вода и мыло. У этой же девчонки волоски топорщились, как крысиный хвост, а вкупе с потерянным взором голубых глаз, вовсе вырисовывалась жалкая картина. Соседка ещё и носом своим орлиным дёргала, морщась от каждого резкого запаха. С непривычки, наверное.
Мариам одёрнула себя от чересчур злых мыслей. Глупо.
Завидовала этой возможности не знать, что такое изнуряющая стирка на протяжении трёх лет? Позволять выражать эмоции из-за чего-то простого, там, неприятной ткани, едкого пятна, косого взгляда монахини? Ощущать хоть что-то приземлённое, а не методично делать работу, головой отслаиваясь от тела? Весь пар, жар воды, он — всегда был далеко, за тысячами мыслей в собственном мирке. Только подобное наблюдение за другими помогало возвращаться в реальность, хотя бы на ту мизерную долю секунды, прежде чем голоса в голове снова пускались в рассуждения, очередное повторение плана и придумку всех сложностей, которые могли бы встретиться на пути.
Зато ей осталось не так долго гнить в этих стенах, а вот у светловолосой всё впереди: многочисленные осознания, бездумная работа и тянущий комок бессилия под кожей.
Вода журчала, слышался скрип корзин и тихий топот воспитанниц, шныряющий туда-сюда. Вдруг раздался шёпот совсем близко.
— Меня Патришия зовут, — выдохнула девушка, чуть наклонившись в сторону рядом стоящей Жозефины.
— Жозефина, — та забегала взором по грязной ткани в ладонях, не решаясь поднять голову.
— Я только... — украдкой оглянулась. — Скажи, матушка позволяет хоть раз ребёнка увидеть? Просто у меня девочка и...
По цеху прокатился звон.
Мариамна напряглась, сжав губы в полоску. Предполагала, что такое будет, но посреди работы... Плечи сковало напряжением, а руки сами продолжили тереть воротник. Усерднее. Чтобы лицо чужое не видеть.
По полу расплескалась вода — Жозе уронила жестяное ведро, заставив всех на секунду застыть в недоумении. Потом эта повисшая в воздухе растерянность пропала — монахиня уже шумно шагала к их ряду.
— Не дают, — пробормотала воспитанница, теребя край платка с нервозностью. Раньше на том месте было памятное украшение, сейчас же осталась лишь шершавая текстура. — Сестра!
— Тишина! Или совсем за наглостью позабыли, что болтать нельзя?
— Я знаю! Просто, вы же говорили... заколку мою найдёте... Она мне как память... прошу вас, сестра! — Голос оброс истеричностью, а губы дёрнулись. Мягкие черты лица стали чересчур тревожными — такими, какими не рисовались уже больше недели.
Новенькая отступила на шаг, оглядывая картину. Видно, разрывалась между человеческим «помочь» и отмолчаться в сторонке, чтобы не прихватить порцию раздражения от чёрного балахона.
— Найдём мы тебе ещё заколку, — фыркнули ей в ответ холодным тоном. — Но это не значит, что ты должна прохлаждаться. Отмывай пол дочиста, чтобы вывести всё свинство из души. Требовать удумала!
— Но я не могу... — синий платок упал прямо в мыльную воду, когда девушку дёрнули в сторону выхода.
— Матушка Агнес объяснит тебе правила ещё раз, если за столько лет не запомнились.
За стучащими чётками, последовал хлопок двери.
Разве Жозе не была околдована?
Мысль пронеслась быстро, заставляя вновь скользнуть острым взглядом по выходу, где скрылись два силуэта. Тогда почему так отреагировала? Почему не отмолчалась, склонив голову? Может ли эта бесовская дрянь от Владислава так легко разваливаться? И всё из-за какой-то заколки. Это же просто украшение, ещё и не дорогое, незачем истерить.
Она знала, что врёт самой себе и именно поэтому под ребрами не перестаёт скручиваться напряжение и неловкость. Но раз уж украла, раз уж решилась на это, то отступать было бы поздно.
Сделает. Сбежит. Тогда забудет приют как страшный сон и никакие чужие, перекошенные от растерянности лица не будут всплывать, словно едкие картинки и напоминать о цене спасения.
***
В кабинете повисла вечерняя дымка. Стены казались более серыми, а стеллажи с немногочисленными книгами превращались в тёмные пятна. Свеча не загоралась.
Коробок был опустошён и все почерневшие обломки спичек валялись возле растекшихся капель воска. Чернокнижник не мог найти запасную упаковку, но точно помнил, что покупал. Стоила ровно два пенса и должна была лежать где-то на крайний случай.
Доходили слухи о Жозефине, о том, что та вновь стала беспокойной и не могла сосредоточиться на работе. Матушка Агнес уже заходила сегодня. Не особо искренне спросила о здоровье и внешнем виде, Владислав солгал про болезнь. Конечно. Не бесы, не напрочь замороженная голова и потеря счёта времени, а просто простуда. Женщина допытываться не стала, но попросила решить проблему с неугомонной девкой, ведь ребёнка той уже две недели как отдали в другую семью.
Парень не спорил, лишь кивнул понимающе, а после того, как дверь захлопнулась, уселся на жёсткий стул и провёл рукой по лицу. Всё рассыпалось. Комната давила стенами, воздух становился душным даже при открытых створках.
Чаще стал промахиваться: то забудет поправить бадлон, то потрёпанный гримуар убрать со стола в келье, а недавно, одна из воспитанниц во время уборки нашла окровавленную купюру в его кабинете. Конечно, ей никто не поверил, но тело в тот момент прошибло холодным потом. Через час в венах забурлило отвращение к собственной невнимательности, а ещё через какое-то время он сел просмотреть положение дел. И вот, весь извёлся, пытаясь зажечь ёбанную свечу. Силы шли наперекор. Взбунтовались, тыкая его мордой в ошибки, как кота в собственную мочу. Потому что не нужно было лезть в чужой договор, нарушать проклятый порядок вещей и играть в целителя. Вытравить родового? Смешно.
Ногти впиваются в затылок до боли, пока чернокнижник удерживает себя от желания удариться головой о стол.
— Не во имя Отца, не во имя Сына, не во имя Духа Святого, — бормочет, едва разлепляя губы.
Игла прокалывает кожу и на том месте проступает небольшая капля крови. Кончик пальца уже онемел от отчаянных попыток призвать бесовщину, но Владислав всё равно оставляет алый след на десятифунтовой купюре, продолжая шептать просьбы.
Вместо видений и ситуации Жозефины, в голову приходят лишь странные картинки, которые почти нереально связать. К горлу подкатывает ком, резкая боль в висках заставляет зажмуриться.
Пахнет противным дымом и плесенью. В груди разрастается отчаяние такое, что хочется просто всё бросить. Перестать притворяться, притворно лебезить перед сёстрами, постоянно дергать воротник, дабы скрыть татуировку.
А Мариамна видела. Осталось только понять, как быстро она придёт к тому, что бы свои знания использовать. Тогда вышвырнут его дрянную тушку из этого места и податься будет некуда. Ведь сила не желает ничего иного. Бесам нравится ощущение тоски, удушливой безнадёжности и напряжения, что царит как в помещении, так и на погосте. Да и парень ещё несколько месяцев назад осознал — сгинет, если ослушается. Когда той монахине помог в церкви, не хотел же возвращаться, думал вообще рвануть в Эннис. Там в кафедральном соборе был один священник...
В общем, не суть.
Его такси попало в аварию, не успев и выехать за пределы Корка. Он получил лишь пару ссадин вместе с жирным намёком, парящим в дыму поломанного автомобиля: «Как диктуют, так и делай». И сделал же. Теперь гниёт в этом приюте, погрязая в чернухе и чужих страданиях.
В голове нарастает гул и чернокнижник стискивает зубы. В чем вообще смысл такого существования?
***
Тик-так.
Тик-так.
Тик-так.
Невидимый счёт раздражал. Хоть в приюте не было никаких обозначений времени, казалось, что часы висят прямо над кроватью и щёлкают, напоминая об уходящих минутах. Издевались. Потому что побег был почти в руках, словно рывок — и ты уже за забором, видишь мир, вдыхаешь душный воздух, какой бывает перед ливнем.
Но расстояние всё ещё слишком большое, чтобы пересечь его прямо сейчас. В прошлый раз сглупила, повелась на эмоции и мнимое ощущение силы. Мол, «Вы мне не помеха! Я уйду, когда захочу! Не буду больше терпеть!». А потом дожди, холод и жёсткие руки настоятельницы, цепляющиеся за волосы с явным намерением опозорить и указать на место в этой жизни.
Поэтому, надо быть терпеливее. Всё постепенно.
Но выворачивающее жжение не проходило даже перед сном. Особенно, когда девушка видела являющуюся вечером монахиню. Все встают на колени и бормочут молитву на ночь, раскаиваются. Мариам чувствовала только холод сквозняка, ползущего по полу, и то, как бурлит внутри кровь при произнесении даже одного молитвенного слова. Не хочется больше вспоминать грехи и просить ангела-хранителя наставить её на путь добра. Не поможет. Наверное. Поэтому, притворно раскрывая губы, она шептала всякую чепуху. Потом ложилась спать, укрывшись тонким одеялом.
Сегодня опять не время.
Да сколько уже можно?
Воспитанница ждала день, когда сестра Елена возьмёт вечернее дежурство, но тот, как назло, всё не наступал, заставляя терпение испаряться с немыслимой скоростью.
Снова утро. Солнце слегка просачивается через окно в решётках и ползёт по бурым доскам. Слишком ярко.
Одна из полных, сморщенных монахинь будит их на утреннюю мессу. Голос противный и громкий бьёт по перепонкам. Мысль возникает единственная и короткая. Да чтоб вас всех черви сожрали.
Руки несколькими движениями застилают кровать, меняют светлую ночнушку на коричневое платье, взмахами разглаживают жёсткую ткань одеяния. От бесформенного силуэта тошнит, от чужого тона звенит в ушах, от речи священника в церкви хочется кривиться.
Под кожей шевелится лишь нетерпение, обрубаемое рутинностью действий.
На завтраке одна из воспитанниц медленно зачитывала молитву, пока ложки остальных бились о края тарелок. За перегородкой на возвышении, тихо, без спешки беседовали женщины, успевая насладиться и горячим чаем, и традиционной яичницей с беконом.
— Bless us, O Lord! and these Thy gifts, which we are about to receive from Thy bounty, through Christ our Lord. Amen. (*Благослови, Господи, нас и эти Твои дары, которые по Твоей щедрости вкушать будем. Через Христа, Господа нашего. Аминь.)
Запах горячей еды и хлеба внезапно напомнил тот апрельский день, когда Владислав подсунул ей тосты и яблоки, да так, словно бездомному коту, которого стало жаль. Но было вкусно. Хотелось бы почаще...
Девушка проглотила кашу слишком поспешно, за пару минут, не ощущая на языке даже малейшего привкуса этой массы. Потом обернулась, уставившись на пустующее место наставника. Уже какой день завтраки не посещает?
Раньше ходил. Да и вообще чаще мелькал на периферии зрения. Теперь будто испарился и это нервировало ещё больше. Что задумал?
Ладно, главное, что не мешает, а остальное не важно.
Слишком громко хлопнув стаканом о стол, она привлекла к себе ненужное внимание, поэтому пришлось поспешно уткнуться в пустую тарелку. Никогда бы не признала, что легкое волнение пробегало при взоре на свободный стул.
Остальные часы занимала монотонная работа. Сегодня на территорию прачечной заехал невзрачный, грязного цвета Austin van, куда обычно они складывали всё постиранное и выглаженное бельё.
Взять комплект с полки, положить в короб с выцветшей надписью заведения, заполнить его доверху, поднять, донести до багажника, не убиться на лестнице, выдохнуть. Схема до боли проста. Но от нескольких часов перекладывания ткани, руки стало покалывать, а на коже появилось пару мелких царапин.
Втиснув последнюю партию в ряд, воспитанница прислонилась к стене, потирая гудящие запястья. Чуть поодаль болтали двое мужчин — отец и сын. Первого она наблюдала уже несколько лет подряд — темноволосый, с проступающей сединой на бороде и бровях, вечно хмурый и курящий дешевый табак. А вот его ребёнок катается с ним не так давно, видимо, дорос до папиных дел.
— Ты на них вообще не смотри, — доносится обрывок разговора. — Здесь не женщины, а срамницы и шлюхи.
Кулаки сжались сами собой, а ногти больно впились в кожу.
— Конечно, пап, я знаю, — закатывая глаза, отвечает паренёк лет двадцати двух.
— Пошли, нам ещё развозить этот хлам, — мужчина легко стучит по капоту и выпрямляется.
Скрывшись в здании, Мариамна стиснула зубы. Вот что о них думает общество? Не кающиеся грешницы, не страдающие женщины, просто проститутки. Как неудивительно. Вот выйдет отсюда — всем покажет, что это неправда. Носом тыкнет в их невежество. И заставит поверить, заставит...
Дверь захлопнулась, работа продолжалась.
Вечером тело было ватным от усталости, но пальцы упорно прочёсывали подсохшие после душа пряди волос, придавая им более-менее человеческий вид. Остальные девочки копошились возле своих постелей, какая-то старушка кряхтела, натягивая ночнушку.
Вся сонная дымка спала, когда к ним зашла Елена. Да неужели...
Взор сразу стал острым, а движения резкими.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Аmen.
(*Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.)
Снова приглушённое «Аmen», снова шёпот гуляет меж кроватей. Потом едва различимый стук щеколды и тишина.
Ночь.
Воспитанница решила вообще не спать — сегодня не тот случай, когда можно доверять собственному телу. Минуты тянулись долго, а сердце стучало глухо и быстро, отбивая странный ритм в грудной клетке. Наконец, решилась. Стянула одеяло и ступила босыми ногами на пол, ощущая прохладу. Надо хоть туфли надеть, а то по кладбищу рыскать без обуви — глупо, потом всё грязное будет.
Через несколько секунд приготовлений, она со скрипом встала оглядываясь. Вроде спят. Тихие шаги до двери рассекли пространство. Вдох. Выдох. Ну что ж. Не побег, но финальная проверка. От вещей в пристройке зависит итоговый результат. Будет ли там что-то полезное? Одежда? Самозащита?
Взятая из подола заколка холодила пальцы, пока Мариам, прислонившись к дереву, почти наощупь проталкивала острый, изогнутый край. Только луна слабо помогала, заставляя металл в руке поблескивать. Надо было лишь поддеть...
Какое-то время пришлось повозиться с щеколдой, но в конце концов та поддалась, глухо сдвинувшись. С дрожащим дыханием девушка распахнула дверь, выскользнув в коридор. Прикрыла за собой, и что-то потянуло её к задвижке, навязчиво предлагая запереть обратно. Щелчок.
Ведь если какая-нибудь дура полезет за ней, то точно наведет переполох. А лишнего внимания монахинь никому здесь не нужно. Жестоко? Может, немного. Но так надо. Так правильно.
Освещения в коридорах почти не было, и идти приходилось на автомате, по памяти. Стены отдавали холодным блеском, впитывая голубые лучи из окон, а двери казались тёмными громадами, вставшими по стойке смирно. Скрипа половиц не было слышно — везение. Лестница уходила вниз, и, вцепившись ладонями в деревянные перила, воспитанница старалась пройти её быстро, но без шума. В ушах стоял звон от мертвой тишины здания: ни скрипов, ни молитв, ни треска пламени свечей. Только молчаливые развилки и широкие пространства.
Cemetery
music: Журавко — Svarog Light
Ключ от кладбища провернулся легко, с торжествующим стуком предлагая выйти на улицу. И она вышла.
В ночной тиши было не по себе, особенно, когда глаз вылавливал силуэты перекошенных крестов, а мозг подкидывал воспоминания с изгнания. Сейчас же не слышались начитки, шёпот, завывания ветра. Затишье перед бурей. Кожей пыталась почувствовать то мимолетное ощущение, которое являлось во сне, словно погост кипит, напитанный странной силой и та напряжённо пульсирует, отдаваясь гулом в сердце. Это должно быть воодушевляюще, но, пробираясь меж захоронений, чуяла лишь давление из темноты, заставляющее поджать плечи и смотреть на дорогу.
Аккуратно ступая по сырой земле и больше не стараясь вглядываться в темноту (вдруг возле могил действительно появится белая маска?), она подступилась к пристройке. Эх, фонарь бы сюда.
Рассмотрела, что смогла, и нащупала замок. Потом присела на корточки, встраивая ту же металлическую конструкцию в пазы.
Пахло гнилью, влажной землёй и немного старыми досками, из которых было сколочено это небольшое здание, похожее на сарай. Конец заколки скрёб штифты с лязгающим звуком. В итоге, развалюха поддалась, сопровождая щелчком открытие механизма. Освободив дверь, Мариамна дёрнула её на себя, поморщившись от затхлости пыльного воздуха, что скопился внутри. Ну конечно. Темнота.
Еле-еле проступали очертания полок, набитых хламом, лопаты у стены, вёдра, мётлы. Вряд ли в этой дыре есть электричество... Пришлось пару минут пошариться среди всего мусора, прежде чем пальцы коснулись прохладной поверхности керосиновой лампы. Потряся той из стороны в сторону, девушка поняла, что жидкости там плескается немного, но если повезёт, то на недолгий осмотр хватит.
Шагнув обратно на кладбище, она присела, поставив находку на землю. Дальше, с неохотой вынула украденный коробок и подожгла одну из спичек. Огонь своей яркостью ударил по привыкшим к темноте глазам и пришлось со спешкой дёрнуть рычажок, дающий доступ к фитилю. Пару манипуляций и тот загорелся, бросая жёлтые блики на светлую ночнушку и бледное женское лицо.
Спичка была прикопана в землю резвым движением туфли.
Тепло.
Оно обожгло кончики пальцев, когда металл начал нагреваться, и запустило ворох мурашек по спине. Что-то воспитанница и не заметила, как прохладно сегодня на улице. Сердце всё ещё отбивало странный ритм, но уже спокойнее, без явной паники.
Теперь-то можно было и покопаться в вещах. Рассматривая полку за полкой, находила садовые приборы, карболку, платки, но все же добралась и до полезного, надо было лишь отодвинуть ручки лопат да мётел. В углу красовался старый комплект одежды, зажатый партией фартуков — длинная юбка и нейлоновая рубашка, судя по их виду, пролежали вещи тут несколько лет. Все пыльные, чуть измятые. Ладно, главное, чтоб в момент побега на ней было не коричневое платье, а то сразу распознают и заберут обратно.
Когда фитиль начал угасать, перед Мариам выстроились отложенные предметы. Аккуратная стопка одежды (может, успеет разгладиться), несколько ржавых шиллингов, канистра с остатками бензина, которой явно здесь быть не должно, и... Кривой, но не тупой нож. Лезвие холодно блеснуло в свете лампы, и в груди ёкнуло – слишком уж похож был на тот размытый образ из сна. Именно поэтому девушка какое-то время неуверенно его крутила, прежде чем решиться и положить к остальному набору на полку.
Лампу оставила внутри и вышла, прикрывая дверь и надевая обратно замок, но не запирая. Пусть для вида висит.
В грудной клетке словно разжалась пружина. Излишняя тревожность ушла, оставив в организме стойкое ощущение решительности. Правда, засело меж рёбер ещё что-то странное... Не дающее покоя. Как чуйка? Будто сегодня не всё пройдёт гладко. Эта не пойми откуда взявшаяся неуверенность раздражала и заставляла прокручивать в голове мелочи. Всё ли потушила? Точно окна на эту сторону не выходят? Может, слишком явные следы на земле оставила? Вроде нет.
Коридоры приюта снова встретили её застывшей тишиной. Только вот — шаг. Второй. Звуки исходили как раз со стороны комнат монахинь и лестницы. Чёрт.
Дёрнувшись в сторону, воспитанница аккуратно, на носочках, делая чересчур большие шаги, добралась до угла. Схватилась за стену, прислушиваясь. И только когда шум стих, позволила себе оглядеться. О, так это был знакомый коридор. Тот самый, через который она бежала после столкновения с рыжей малявкой. Продвигаясь вперёд, различила очертания и большого зала со стульями и комнаты с хламом и недоделанным ремонтом. Правда сейчас на заброшенную она не была похожа... Через приоткрытую дверь виднелось пламя свечи, которое отбрасывало на стену дрожащие силуэты.
Вряд ли сестра Виктория рисовала бы в разрухе и темноте... Да и звука чёток не слышно. Тогда кто там? Владислав?
Осторожно подобравшись ближе, заглянула.
И видит Бог, лучше бы она этого не делала.
Сердце разом рухнуло вниз, дыхание спёрло. Глаза расширились, а картинка на миг смазалась, словно въехали чем-то тяжелым по голове.
Запах плесени. Тень от свечи качалась, вырисовывая на потолке чёрный мужской силуэт и петлю, закреплённую на балке. Табуретка щёлкала, шатаясь на разного размера ножках. Его руки держались за сделанную конструкцию и медленно, словно спешить уже некуда, накидывали верёвку на шею. Потом поправили узел, будто единственная важная вещь в этот момент — удобно закрепить.
Мариамна отшатнулась. В мыслях на секунду стало совсем пусто, только навязчивый стук табурета играл напряжённую мелодию в черепушке. Что? Как? Почему?
Вопросы мелькали обрывками, прежде чем тело охватил ужас. Противный такой, оглушающий, заставляющий дрогнуть и растерять весь цинизм, вместе со способностью анализировать. Стало неважно, что всю последнюю неделю она то и дело винила наставника во всех грехах человечества, что боялась его влияния и злилась на изгнание.
Рывок.
Не помнила, как сорвалась с места и взобралась на это сооружение лишь для того, дабы дотянуться до его плеч. Парень не был коротышкой, и пришлось неудобно впиться ногтями в кожу, чтоб иметь хоть какой-то шанс воздействовать на ситуацию. Мышцы напряглись. Скрипнули доски под ногами. Девичьи руки дрожали, а из горла вырвалось хриплое:
— Слезай! Чёрт, — пошатнувшись, дёрнула его на себя, из-за чего шершавая верёвка неприятно впилась в чужую шею.
Владислав шумно втянул воздух, прежде чем пришлось наклонить голову — воспитанница с силой надавила на затылок ладонью, чтобы иметь возможность стянуть удавку. Он даже не сопротивлялся.
Секунда.
Две.
Жёсткий ворс обжёг скулу из-за резкого, почти истеричного движения вверх.
Петля отлетела в сторону, криво покачиваясь.
Ножка табурета хрустнула, не выдержав их веса, и подогнулась. С шумным стуком двое полетели на твёрдый пол.
Парень зашипел, ударившись о деревяшку, а потом привалился к стене. Кожа была бледная, почти схожая с серыми кирпичами в этой разрухе, тёмные глаза пытались сориентироваться в пространстве. Вверх подлетела пыль.
Мариам же боль в колене проигнорировала, тут же глянув в лицо напротив. Её скрутило всем одновременно: яростью, паникой, страхом, непониманием. Губы изогнулись, дрогнув. Она никогда бы не полезла в петлю. Столько пережила, чтобы умереть ничтожно? Нельзя так, нельзя. Почему наставник может позволить себе слабость? Он же... сильный. И знал, и мог больше всех подопечных приюта вместе взятых! Кретин. Просто безнадёжный кретин. Захотел оставить её тут одну?
От собственной мысли девушку дернуло. Считала его средством, потом противником, а теперь...
Неудивительно. Как бы не грызлись — были на одной стороне. С бесовщиной своей и гадким характером.
— Ты чем думал?! Кто будет потом объяснять, почему духовный наставник сдох, как последняя тварь, в этой дыре?! Мне грех на душу брать из-за твоего малодушия?! — Гнев разлился по венам, защищая от липкого ужаса. И стыда за этот ужас. Русский язык выходил из горла до боли привычными рывками, таким же тоном ссорилась с матерью всю жизнь. — Не молчи, Влад!
Ладонью ударила его по щеке. Чтобы посмотрел, объяснился! И он поднял голову.
Пустота чужой радужки разбила любое желание дальнейших возмущений, ведь в ней читался лишь неприкрытый вопрос: «Зачем?». Зачем пришла, зачем сняла? И не надо лгать про Бога и грехи, такие оправдания звучат жалко.
Дрожащие пальцы нащупали край его рубашки и поправили с заметной грубостью. Непривычно выглядывала чернющая татуировка на открытой шее, словно вещи подбирались по принципу «оставить для удавки».
— Что ты тут забыла? — выдавил из себя чернокнижник, потирая место, где горел невидимый след от веревки. Словно пытался убедиться, что той действительно больше нет.
— Да какая разница? — прошипела уже тише. Голос дрогнул. — Ты... не должен так. Не можешь. Потому что обязан ответить! За всё! За Жозе! За... за других!
— Конечно, — кашлянул сморщившись.
Потом они встретились взорами. Мариамна разглядела чужую разбитость, непонимание, хмурые брови, заметную щетину на лице, а вот он увидел её страх. Реальный. Не наигранный, не поддающийся прошлым тактикам и не спланированный. Живой, плескающийся в каждом движении и лживых оправданиях.
Кажется, их игра не подразумевает победы.
— Ты боишься, — сказал небрежно, переведя взор на болтающуюся веревку.
— За тебя что ли? — хотела отдёрнуть руку, но Влад не дал.
Придержал холодным касанием. Неожиданно. Прохладно. Не с силой, чтоб остановить или ухватить побольнее, а просто... Точкой опоры. Воспитанница дёрнулась и всё тело напряглось, как перед дракой. Сама сжалась, пока бегающий взгляд перемещался со скреплённых ладоней на его усталое лицо. Сглотнула. Не могла и соврать теперь, потому что слова казались нелепыми, и правду озвучить. Поэтому предпочла промолчать, с каждой секундой чувствуя растущую теплоту чужой кожи и собственную панику, бьющуюся где-то в горле.
— И меня, и за меня.
— Shut up, — вырвался сдавленный английский шепот.
Повисла тишина. На улице начал завывать ветер.
— Бес твой, — начал чернокнижник глухо, прислонив затылок к стене. — Я говорил, что родовой?
— Говорил, — кивнула, пытаясь понять, почему нет привычного отвращения. Напряжение, контролирующее каждую мышцу — да, страх — тоже да, но нет желания стянуть с себя кожу, выжечь, вытравить место прикосновения. — Но я не знаю, что это значит. Род? Это из-за семьи моей?
— Считай так. Какая-нибудь бабка заключила договор, потом померла, а силе не с кого было требовать оплаты, вот и добралась до младших. — дёрнул губой, прикрывая глаза. — А я думал, шо он у тебя просто с характером дурным. Як хозяйка.
— То есть я должна выплачивать долг? — проигнорировав издёвку, спросила девушка. Если он шутит, значит жить будет.
— Разберёмся, — только и сделал, что отмахнулся, разрывая тактильный контакт.
Мариам нахмурилась, но потом сразу отползла, запачкав подол светлой ночнушки. Это значит вместе решим? Да нет. Он просто пытается её успокоить, наверное. Хотя зачем? Ей нужна была правда, а не жалость.
— Ты уже разобрался, — зло потерев запястье, которое всё ещё покалывало, она поднялась. Сердце ходило ходуном, стуча раскатами внутри головы. Потом раздалось ворчание. — Должен был понять с самого начала. Кто из нас колдует?
— Ну извини, что не всезнающий Господь Бог.
В звенящей тишине раздалось лишь фырканье. Воспитанница поправила загибающуюся свечу — пламя сразу взметнулось, лизнув кожу. Но не обожгло.
Душно здесь было так, что частицы пыли парили в воздухе, пролетая в лучах рыжего света. Молчанье нависло тяжелой глыбой, а дрожащая петля на балке только навеивала неприятные мысли. Покачивалась, словно издеваясь, глухо смеясь над ничтожностью происходящего. В животе застыл тревожный ком.
— Не трогай меня, — выдавила она, но без обычной злобы. — И не лезь в эту... Виселицу.
— Не буду, ты ж табуретку сломала, — Влад повернулся. В утомлённом лице не было веселья.
— Мне пора.
— Иди.
Шаг хрустнул слишком громко для тягучего, застывшего настроения комнаты. Девушка остановилась у двери. Быстрый взор пустила на верёвку, поджала губы. Хотелось сорвать её и сжечь где-нибудь, чтоб у этого колдуна даже минимального соблазна не было.
Не слишком ли она беспокоится? Кошмар.
Вылетела из помещения почти бегом — поспешно касаясь носочками квадратной плитки, словно тень, гонимая стыдом за собственную слабость и эмоциональность.
Не хотела больше видеть его силуэт у стены и эти глаза: знающие, разбитые, но всё равно глядящие в самую суть её притворства. Ту, которую даже Мариамна опасалась исследовать.
***
Заколка вновь спрятана, хоть и выглядит после ночных похождений помято. Глаза закрыты. Одеяло прикрывает запачканную часть сорочки. Запереть комнату обратно не представлялось возможности — одно дело вылезти, а другое — привести в начальный вид щеколду. Нереально, учитывая темноту облепившую помещение. Луна ведь скрылась за тучами, отказавшись смотреть на жалкие попытки девушки утаить следы похождения.
Утро пришло невыносимо быстро, заставляя зажмуриться от криков монахинь и боли в голове. Тело отдавало ломотой и усталостью. Противно.
Воспитанница еле поднялась, опираясь рукой на спинку кровати, и огляделась, прислушалась к разговорам, которые сливались в раздражающий шум.
— Кто вчера закрывал двери? — Настоятельница злилась. Морщинистое лицо перекосило, а тонкие губы дрогнули, пока та пыталась выдавить из рыжей девчонки ответ.
— Сестра Елена, — пискнула.
— Сестра Елена?
Даже с расстояния нескольких метров, Мариам увидела настоящее удивление на лице женщины. Хотя, скорее, это было замешательство, которое через пару секунд превратилось в досаду. Край рясы взметнулся, знаменуя о конце мелкого допроса.
— Что ж, — повисла пауза. Монахиня быстро пересчитала подопечных, строго рассмотрев каждую. — Не стойте столбом, собираемся на мессу! Не забудьте умыть ваши лица.
Все активно зашевелились, опустив глаза. Общая комната вновь наполнилась привычными настроениями — покорностью и подчеркнутой незаинтересованностью. Словно всей этой толпе не было любопытно во что выльется сегодняшняя история.
А вот сама девушка знала, что будет. Ждала ведь чужого дежурства несколько дней. Почему? Сестра Елена новенькая и ей, как оказалось, не доверяют целиком. В её связке ключей лишь основные залы и собственная келья. И раз никто не сбежал... Вряд ли бы открытую дверь сочли за взлом. Невнимательность, да и только.
Так и случилось.
Удобно.
Воспитанница тщательно занимала себя раздумьями: напрягала мозг, расхваливала стратегию, душила скребущееся в груди чувство вины, только чтобы не вспоминать ночь. Петлю. Рыжие отблески от свечи на бледном лице. Её чрезмерную эмоциональность. Переживания. Тепло его руки.
Она дернулась и набрала в ладони холодной воды, дабы плеснуть не жалея. Та затекла в глаза, пощипывая, но наплевать, главное, чтоб картинки перестали быть излишне яркими. Лучше физическая боль, чем... Такое.
Закусила губу.
Не надо больше вообще подходить к Владу. Спасла и хватит, остальное его проблемы. У неё только одна цель — побег, а помехи в виде колдунов, сбивающих с толку, должны быть устранены. Единственное, с родовым долгом неудобно выходит. Получается, все равно оплачивать надо? А как? Едва ли бесы берут фунтами. Хотя даже тех у девушки нет. Может кровью? Тот сон... Намек?
В коридоре, пока их колонной вели к выходу, разгоралось отчитывание. Едкое такое, показательное, начинающееся с шепота и переходящее в выговор со стальными нотками.
— В чём заключается твоя главная обязанность при вечернем обходе?
— Всех посчитать, прочитать молитву, проверить дверь.
Виднелись и силуэты. Матушка Агнес склонила голову, чтобы посмотреть в лицо монахини: старческая челюсть была напряжена, а водянистые глаза дрожали от недовольства. Елена же сжала руки за спиной слишком сильно, но старалась не выдавать много вспыхивающих чувств, только по подрагивающим пальцам было видно — давалось с трудом. Меж её бровей залегла растерянная складка.
— Проверить? — вопрос стал похож на тихое шипение. — Не проверить! Закрыть! Запереть! Заблокировать! Обезопасить этих падших созданий от них же самих, а нас — от их позорного бегства! И что же я обнаружила сегодня на рассвете?
Она сделала театральную паузу, наслаждаясь этим напряжением, что напитало воздух первого этажа. Воспитанницы оглядывались через плечо, пытаясь понять суть диалога и от повышенного внимания, молодая женщина сильнее сжималась, словно хотела занять меньше пространства.
— Дверь была не просто не заперта, она была приоткрыта. На палец. Всего на один жалкий палец! — Она показала этот сморщенный мизинец, тыча им в воздух перед самым лицом Елены. Её голос стал низким, полным пренебрежения — И знаешь, что это значит? Это значит, что любая из этих развращённых... — махнула рукой в сторону идущих колонн, — могла выскользнуть ночью и опозорить этот дом, основанный на милосердии и труде! Опозорить нас перед всем обществом! И всё потому, что ты проявила презренную, греховную безответственность!
— Но, я клянусь...
— Твои клятвы для меня теперь — пустой звук! Ты думаешь, Господь простит такую халатность? Ты думаешь, твоя «искренняя вера», — Агнес произнесла эти слова с язвительной насмешкой, — искупит этот проступок? Нет! Вера без дел мертва! А твоё дело — это дисциплина и порядок! Порядок, который ты поставила под угрозу!
Настоятельница скривила губы, её лицо склонилось чуть ближе.
— Пять месяцев ты здесь. Всего пять. И уже позволяешь себе такую расслабленность? Думаешь, тебе всё простят за тихий голосок и слова о любви? Здесь нет места сантиментам! Это не приют для нежных душ, это лепрозорий для грешниц, и наша задача — не оставлять соблазнов для их глупых голов.
Стуки туфель девушек отдалились, и два силуэта замерли в молчаливом окончании разговора. Одна — наслаждалась чужой уязвимостью, а другая пыталась изо всех сил сдержать жгучие слезы. Разве можно так? Разве не нужна грешницам вера в спасение и любовь Христову?
— Время службы, — оглянулась матушка на двери. — Иди. Договорим у меня в кабинете.
***
Church
music: Spiritus Sanctus Vivificans —
Anna Sandström, Хильдегарда Бингенская
Когда последние ноты органа затихли, а священник, перекрестившись, отошёл от алтаря, в церкви стало тихо. Только мелкие шаги прихожан растворились в коридоре. Солнце начинало подниматься выше, кидая ленивые лучи на резные витражи. Свет рассеивался, накрывая ряды приятной, лёгкой дымкой.
Ни лишнего звука, вздоха.
Мысли с послушанием выстраивались в ряд, переставая хаотично свистеть в голове. Сестра Елена не поднялась — всё сидела на ближней скамье и перебирала чётки. Её чёрное одеяние резко контрастировало со светлыми сводами помещения, тем не менее, смотрелось органично, словно женщина не инородный предмет, а кусочек пазла, нашедший своё место. Пухлые губы раскрывались в тихой молитве, а в глазах поблескивали тщательно скрываемые слёзы. Из-за унижения, из-за недоверия.
Послышалась методичная поступь. Такая, какая присуща монахиням, видавшим многое — строгая, чёткая, холодная. Подле присела Виктория, сцепив руки на коленях. Лицо, прежде застывшее безразличной маской, вдруг потеплело, но, конечно, для невнимательного взгляда мало что поменялось. Все также была выточена осанка, вскинут подбородок, а челюсти сжаты. Женщина молчала почти всегда. Не любила пустых слов и бестолковых сплетен так же сильно, как и не переносила несправедливости. Только вот о последнем факте знали не многие. Это не было напоказ, это горело внутри тихим костром, тем, который ещё не затушили полностью, но и пламя в нём больше не вздымалось вверх так резво, как раньше. Оно жгло, когда стояла и смотрела на страдания девушек, когда наказывала сама или отворачивалась.
Но пришлось научиться с этим жить. Только сейчас... Не стерпела, подошла. Не знала почему, но уйти казалось кощунством.
— Матушка Агнес не ищет правды, иногда лишь виновного, — её слова прозвучали тихо, но чётко, с явной уверенностью.
— Но почему? Преуспевать нам стоит в правде, благочестии, вере, терпении, кротости, — цитировала писание, потупив взор больших глаз. Мягкие черты исказились разочарованием.
— Не все верят так, как ты, сестра, — на миг повисла пауза. — И не каждый говорящий о Боге свят. Это надо лишь принять, а своим сердцем стремиться к истине. К пониманию и любви.
Спокойный тон дёрнулся, будто сама монахиня не верила в то, что ей когда-либо удастся этим заветам последовать. Слишком заледенело все за годы работы в приюте. О какой любви речь?
— Глупости, сестра Виктория, если человек верит всей душой, то найдёт возможности исправиться, преодолеть свои грехи, — в отличие от собеседницы, её голос жил. То наливался досадой, то непониманием, иногда затихал, переходя на шёпот, словно эмоции плескались не в глазах, а в темпе слов и дыхания. — Все мы заслуживаем второй шанс, и Господь его даёт. И девушкам, и матушке, и...
Горькое «и тебе» повисло в пропахшем ладаном воздухе. Затерялось, меж утренней дымкой, так и не прозвучав. Но монахиня поняла.
За их спинами послышался шелест ткани.
Они не обернулись. До выхода обратно в приют всем дают несколько минут на личную молитву.
— Я раньше пыталась поменять порядки, — начала так же бесстрастно, но серые глаза вдруг налились тоской. — Потом поняла, что бессмысленно. Прошла и через выговоры, и через наказания. Выдохлась. Поэтому, я представляю твои чувства.
На этих словах их руки соприкоснулись. Осторожно, невинно.
Тепло, окрасившись в оттенки безмолвного понимания, пробежало по коже мурашками. Елена поджала губы, явно тронутая чужим поведением. Все отзывались о Виктории, как о занятой, хмурой женщине с безразличием во взоре. Но разве сейчас...? Разве играла хоть капля этого холода в её радужке? Удивительно, но нет. Повернувшись, сестра разглядела там лишь тени знания и желания поделиться опытом. Направить, уберечь.
Пальцы переплелись.
Не из странного порыва, нет. Ради молитвы, ради капли искренности в пролетающих буднях.
Мариамна сидела на задних рядах. Осталась не из желания воззвать к богу или раскаяться, а потому что она приметила Влада у двери. Задержался после мессы, словно случайно. Но нет, пересекаться с ним не желала, поэтому и сжимала в кулаках ткань платья, пока минуты лились одна за другой. Чёрные глаза бегали по резным сводам, окнам, витражам, распятью и остановились только тогда, когда послышался тихий шёпот.
Две тёмных фигуры виднелись спереди. Жёлтые лучи касались краёв их рясы, делая силуэты почти блестящими.
O my God, I love Thee above all things with my whole heart and soul, because Thou art all good and worthy of all love. I love my neighbor as myself for love of Thee. I forgive all who have injured me, and I ask pardon for all whom I have injured.
(*О мой Бог, я люблю тебя превыше всего на свете, всем сердцем и душой, потому что ты добр и достоин всей моей любви. Я люблю своего ближнего, как самого себя, из любви к тебе. Я прощаю всех, кто причинил мне боль, и прошу прощения у всех, кого я обидел." - молитва "Акт любви")