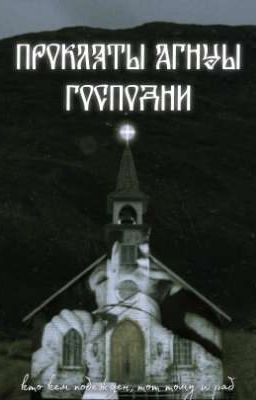Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем.
Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими,
но сделавшийся главою угла и нет ни в ком ином спасения.
(Деян. 4:11)
Сemetery
music: A Ŭ Ciomnym Lesie — Sol Abyssorum
Щелчок замка.
Он вышел на задний двор, прикрывая за собой дверь. Небо было хмурым и почти чёрным, накрывая земли приюта беспроглядной тьмой. Но к ней его глаза привыкли быстро.
Шагая по заросшей тропе, Влад всматривался в покосившиеся кресты. Некоторые заржавели, некоторые криво прилегли, поближе к отросшей траве. Это всё, что оставалось от воспитанниц. Сырая от постоянных дождей земля, металл и никаких упоминаний о дате смерти или имени. Безликие призраки пережитых мучений.
Воздух здесь был густой, плотный, будто застыл в преддверии чего-то. Пахло мокрым перегноем и не просто как в лесу — влажностью, а тяжёлым дыханием старой, накопившей страдания почвы.
Поморщившись, прошёлся до середины кладбища и огляделся. В руках были зажаты чёрные, переплетённые меж собой свечи, образовывавшие подобие человеческой фигуры. Вольт. Где-то в этой схеме, между воском, верёвками и скрутками, затерялся чужой волос. Ради связи, ради контроля. Ведь такой биоматериал самый простой в работе и собрать его во время притворного чтения молитв... Несложно.
Сегодня вновь делались привычные движения. Скоро некая Жозефина — мелкая, любопытная до своего ребёнка девчушка, перестанет проливать слёзы да пререкаться с монахинями.
Мужские губы раскрылись в приглушённом шёпоте. И силу кладбищенскую приманивал, и бесню́ к себе в объятия зазывал. Сегодня Вальпургиева ночь — всё трещит и сверкает, готовое к работе.
— Бес тебя взял, через кровь волю твою забрал, — он прокалывает палец небольшой иглой. В темноте жидкость не выделяется алым, и абсолютно невзрачная капля летит на плетение свечей. Колени упираются в камни. — Нет у тебя доли, окромя неволи. Быть тебе подо мной, головешкой немой! Нет и слова супротив моего оговора. Капля за каплей прольётся, Жозефина ко мне душой и телом повернётся.
Руки на автомате зажигают несколько свечей, которые быстро были воткнуты в землю перед безымянным крестом. И по погосту разносится уже шипение:
— Быть тебе, Жозефина, рабом, под моим каблуком. Во веки веков! — повторяет ещё несколько раз, кладя вольт перед собой.
В голове шумит, пока слова раздаются четко и быстро.
Пламя свечей вспыхивает, освещая жёлтыми отблесками близлежащую траву. На этом кладбище энергетика была вязкая, удушающая. Но бесам нравилось — те словно уплетали чужие страдания за обе щёки и только раззадоривались.
Когда чернокнижник открывает глаза, всё уже накренилось, увядая вместе с волей жертвы. Изначально он хотел соорудить вольт и для Мариам — забив на договор и беса у неё под кожей, но та не давала касаться, всегда следила за руками и малейшими движениями пальцев. Поэтому союз пришлось строить на хоть каком-то доверии. Один откупается, другая молчит и не мешает до поры до времени. Но что-то в ней настораживало... Чуйка что ли работала.
Прикопав скрутку чёрных свечек, парень погрузился куда-то вглубь себя. Сегодня тонкий план был гораздо уязвимее, но и ближе...
Вдалеке каркнула птица.
— Не во имя Отца, Сына, да Святого духа. — Треснувшее зеркало легло рядом с остальным. Глухим стуком прокатилось по почве. — На кресте муку принял распятый, да то крест деревянный, да сей крест кровный...
Сбивчивые слова доносятся из приоткрытого рта быстро, словно меряются скоростью друг с другом. Уже проколотый палец подносит к зеркалу и чертит там кровавые полосы.
Владислав помощника зовёт, да чтоб силы большей дал и помог скрытое отыскать.
— ...Выше небесины, ниже землины, так что речено, да будет исполнено. Слух мой — твой. Зрение моё — твоё. Где ты идёшь — я вижу. Где ты шепчешь — я слышу. Где ты вздыхаешь — я чувствую. Так сию просьбу излагаю, да крестом кровным замыкаю, иже ты, бесина, ходом иди...
Спиной ощущалось чужое присутствие. Тёмное, сильное. И второе — призрачное, как ощущение слежки от икон. Та нечисть, что он забрал у монахини ещё в церкви, ждала своего часа. Может перекинуть на кого-нибудь стоило или в работу направить...
Но вместо слаженного контакта с дьявольщиной, парень получил звон в голове. Протяжный такой, раздражающий и переходящий в виски. Напряженная листва зашелестела, разгоняя по погосту другую энергию, неупокоенную.
Слишком много, слишком настырно.
Тонкий план этой ночью поредел, выпустил из ям слишком много страдающих душ. Они могли как подпитку давать, так и путать, мысли морочить. И если в обычные дни покойники помогали, то сегодня... взбунтовались, будто по команде. И надо было закрыться сразу — бросить это всё, начав нашептывать защиту, но пару секунд задержки стоили дорого. Чужие чувства закладывали глотку, проникали в мозг, показывая картинки из чужой жизни. Несвязные обрывки, но всё от них так крутило, словно внутри проворачивали его собственные кости.
Чернокнижник сморщился, приложив ладонь ко лбу. Перед глазами плясали цвета.
Алый. Кровь. Белый. Простыни. Туфли.
Всё смешалось, превращаясь в круговорот видений. В груди стрельнуло острое чувство потери. Будто отняли что-то или отмерла часть. Нету, нету.
А чужая фраза замерла тихим голосом, повторяя: "Я просто любила", "...просто...".
Потом чётко, среди пелены показались босоножки — красные и яркие, сверкающие надеждой вперемешку с ностальгией. Словно хозяйка хотела их надеть хотя бы ещё один раз в свой жизни. Но жизни теперь нет. И даже после смерти душа кружит, не находя долгожданное успокоение.
Череватый опёрся рукой о землю, пытаясь призвать хоть одну трезвую мысль или прошептать заговор. Но бестелые покойники не думали, что ему это нужно.
Молли. Молли. Кто это? Тетради, старые листы, глаза мелких девчушек, которые смотрят на правила с интересом. Страх. Раздражение. Отчаяние.
В приюте не разрешали учить других, не разрешали развиваться. Только работать, молиться и...
Как на яву покачивалась самодельная петля. Кажется, из наспех сворованных простыней. Светлых таких, в пелене картинок даже ослепительных.
Тело пробило дрожью от знакомой картины. Но у него тогда был ремень, кажется, какой-то старый и потрёпанный. Кулак сжался сам собой.
— От всего Диавол меня укрывает, да не за то, что добротою страдает, а за то, что моё дело да его верно, — быстро говорит, стараясь отогнать противную дымку. Но чувствует, что защиту придётся ставить повторно. — Кто дело так ведёт, тот под крылом его живёт. Отпускай, говорю. Откуда пришли, туда и ступайте. Под камень вас, под землю, под кресты скошенные. Да будет так.
Голоса отступают неохотно. Протяжные, разочарованные. Но когда холодный ветер накрывает плечи, а первая упавшая с неба капля приземляется на щёку, паренёк отмирает. Теперь не разрывается башка от кучи потусторонней боли, не тянет грудь страхом. Дыхание всё ещё неравномерное, а лицо вмиг становится раздражённым.
Потому что знакомый тёмный силуэт недовольно заваливается на крест и гремит скрипучим возгласом:
Ну и чё ты, герой, дёргаться начал? Бабские вопли не впервой слушаешь.
Мать орала, ты жил. Эти кричат — ты куксишься.
Губы поджимаются, как реакция на этот издевательский рык.
Огонь от скрюченных свеч давно впитался в почву, и вокруг опять стало темно. Дождь начинал моросить, падая на лицо и заставляя прийти в себя. Пахло дымом и сыростью.
Влад опустился на корточки, протянул руку к зеркалу — кровавые отпечатки пальцев были ещё свежи. Он не особо любил такие ритуалы. Но знал, что бесня указывает. Сказали делать, значит надо. Волосы, вольты, кровь. Подчинение.
Потом, холодно, с шёлковым шипением, в хаос мозга вплетается второй голос:
Ах... Ты ведь правда веришь, что спасал их? Думал, что даешь выход, без петли отчаяния, без мыслей...? Без протеста? Как мило. Как болезненно невинно.
Да, думал. Но покойницы шептали иначе. И стало как никогда понятно — всё это ёбанная глупость, на которую подбили силы.
Привычно взъелся помощник, только теперь не на ход мыслей, а на встрявшего беса-новичка. Рявкнул и если бы мог, в придачу, определённо закатил бы глаза:
Ой, да заткнись ты, монастырская залупа. Сидит, блядь, на этих ирландских болотах, нюхает мох, слова подбирает, как девка в белом. Только толку с твоего словоблудия, как с пиджака в окопе. Пшёл отсюда нахуй.
Пока парень пытался унять этот гул, врезалось воспоминание. Уже его собственное. Мать... Он вспомнил мать. Как она сидела у окна и гладила одну и ту же тряпку часами. Как боялась громких звуков, не умела смеяться. Никто не читал над ней заклинаний, не ломал волю колдовством. Её сломала сама жизнь. И она осталась в этом. В покорности, трусости и страхе.
Но ведь только цель, эмоции, решительность дают шанс на то, чтобы исправить жизнь. И чернокнижник это отбирает. Нагло и бесцеремонно. Какое право имеет?
После этой мысли в голове кто-то фыркает. Приказано, значит разрешено.
Но на Мариамну тоже разрешено было, не стал ведь ничего делать. Мог хотя бы попытаться, приложить больше усилий. Только вот после сегодняшнего, после осадочного ужаса в собственной груди, маг понял: это бы убило её.
Потому что для неё подчинение — это смерть. Потому что она помнит, каково быть живой. И извернётся, чтобы это вернуть. Наверняка. И надо не губить, а помочь, так хоть толку больше будет. Может он сможет вытащить хоть кого-то.
Когда Череватый оказался внутри здания, откупившись и собрав все материалы работы, на улице лил дождь. Усилился ветер, заставляя деревянные рамы старого приюта завывать.
Кровь кипела в раздражении, а шаги стали быстрыми. Была у него такая способность — передвигаться незаметно и тихо, словно тень, скользящая из-под кровати. Но сегодня другой случай. Работа с низшими всегда пробуждала всё вспыльчивое и неаккуратное. Так и хотелось взъесться на кого-нибудь.
Но Влад предпочёл просто дойти до комнаты, чтобы, не дай бог, не попасться на глаза монахиням и раскрыть свою ложь так глупо. Коридоры тянулись бесконечно — пустые, выдраенные до блеска, что было очевидно даже в ночной темноте. Ведь всё, что делали тут воспитанницы, так это намыливали то ставни, то полы.
Кладбищенская сырость висела на одежде, как проклятие, будто специально окутывая и не желая отпускать обратно в мир живых. Лопатки саднили от напряжения — не от физического труда, а от тонкой, липкой боли, оседающей под кожей после каждого столкновения с тем, что по эту сторону принято не замечать. Бес — довольный, сытый, нашёптывал мерзости, но голос его был будто отдалён, как эхо в колодце. Чернокнижник не слушал. Почти. Только поднялся по лестнице, хмурясь. До спальни оставалось немного.
И тут — свет. Из первой кельи. Там, кажется, обитала монахиня Виктория, которая редко расползалась в притворных улыбках и предпочитала сдержанные кивки. И в общем-то, приоткрытая дверь была не удивительной — женщина часто засиживалась за иконописью допоздна, и Череватый уже замечал эту картину раньше, когда возвращался с ритуалов. Это наверняка был её способ не сойти с ума. С кистью в пальцах и молитвой на губах.
Но сегодня, в тишине раздавались приглушенные голоса.
Он замедлил шаг. Не специально. Просто в голове заскрипело: разве она раньше с кем-то говорила ночью? Всегда одна. Всегда в звенящей тишине.
— ...Если бы ты видела фрески в Ассизи, — говорила монахиня, и в её ровном голосе вдруг пробилась трещинка живого интереса. — Там золото не просто фон, оно дышит.
Влад заглянул мельком, пока пробирался мимо. Сквозь щель виднелись две фигуры у стола: Виктория, склонённая над пергаментом, и Елена, стоявшая рядом и внимательно всматривающаяся в творимое на её глазах искусство. Будто действительно вникала.
— А разве не грех вкладывать столько... красоты в образы святых? — спросила Елена, но не с осуждением, а с тихим любопытством и легким наклоном головы.
— Грех — делать их бездушными, — ответила женщина, и кисть в её руке на мгновение замерла. — Как если бы сам Господь запретил нам видеть Его творение во всём великолепии.
— Сестра Маргарита говорит, что излишняя роскошь в иконе — гордыня.
— Сестра Маргарита, — сухо отрезала Виктория, — рисует лики святых, будто те проглотили уксус.
Собеседница подавила смешок, быстро прикрыв рот ладонью. Виктория не улыбнулась, но уголок её губ дрогнул.
Парень отошёл, оставляя за спиной шёпот и шелест пергамента. Ему было, грубо говоря, наплевать. Пусть себе болтают о золоте и грехах — у него своих дел хватает. Сейчас только бы переодеться и завалиться в койку.
Но бес униматься не хотел. Заинтересованно хмыкнул и прокомментировал:
О-о, — раздалось хриплое. — Да у вас тут не молитвами пахнет, а чем-то поинтереснее...
Чернокнижник резко хлопает дверью. Ему похуй. Сегодня — особенно. Хотелось приказать весельчаку заткнуться, но пришлось только стиснуть зубы. Но он знал: раньше Виктория всегда была слишком замкнута, слишком осторожна, чтобы впустить в свой маленький мир кого-то, кроме молчаливого Бога и света свечи.
Черт бы с ними. Надоели.
Слышал и как разговоры затихли после его шумного стука, и как по коридору прокатились вкрадчивые шаги.
Хотелось спать.
***
Мариамна точно не знала, сколько прошло времени — за пеленой бесконечной стирки мозг не успевал обрабатывать эту информацию. Но захаживать к Владиславу в кабинет стала чаще. Монахини не могли нарадоваться, всё шептались, мол, «вот что делает сила покаяния, исповедь».
Только ходила туда девушка точно не за молитвами. Они разговаривали. О многом. Вопрос за вопросом, какая-то общая тема — и вот уже диалог идёт сам собой, прерываясь лишь на очередной язвительности или колкой фразе.
О подробностях работы с бесами наставник отказывался беседовать. Переводил тему или делал что-то ещё, словно уже всё решил. Конечно, это раздражало. Но ладно, может она сможет докопаться до истины позже?
— Виктория? — парень поднимает одну бровь, перебирая какие-то ткани в своём мешке.
Сегодня было на удивление солнечно, обычно Корк не радовал такой погодкой. Лучи скользили по стенам, освещая жёлтыми бликами все неровности, ветер сквозняком гулял по полу. Мариам высунулась в окно, которое ей любезно открыли, и выглядывала там лес. Но бдительности не теряла. Стоило собеседнику шевельнуться — взор чёрных глаз тут же находил его силуэт и убеждался, что всё хорошо, не приблизился.
Общение зашло в сторону монахинь совершенно случайным образом. Она сказала что-то о Грейсин, Влад тихо хмыкнул, потом пара фраз о строгости, статусности и вот они дошли до этого имени.
— Странная, — подытожил. — Спит, наверное, меньше вашего, вечно вырисовывает что-то в своей комнате.
— Рисует? — тихо переспросила, хмурясь. У неё-то возможности бродить ночью по приюту не было. — А ты откуда знаешь?
Она подалась назад, переставая рассматривать что-то вдали. Теперь, чтобы не упустить слов, надо было слушать этого бесноватого.
А вообще, в кабинете было неплохо. Решётки отсутствовали, появилась возможность дышать свежим воздухом лишние тридцать минут. И... выглядывать соседнюю деревню. С балкона ей обычно открывался вид на домики Бэллимора. До них было недалеко, но если её соберутся искать после побега — то в первую очередь там, ведь сам приют принадлежит этому округу.
А вот чуть дальше расположенный, Уолтерстаун... удобно мелькал между деревьев, и с этой комнаты можно было просчитать примерную траекторию, по которой стоило идти.
— Да сидит с незапертой дверью. То у себя, то внизу, — махнул он рукой, не придавая значения словам. — Мёдом шо ли намазано?
Мариам поглядела на его копошения в каких-то ритуальных штуках и сощурилась. Потом поправила разворошённые ветром волосы. Незапертая дверь? Хм.
Обдумывая тему ключей, она приходила к одному выводу — красть надо у Виктории. Ей доверяют из-за организованности и чёткости, значит, полный набор отмычек присутствует. Проблемы были с тем, что о расписании этой женщины воспитанница не знала ничего. Если остальные болтали о разном, пока контролировали работу в прачечной, то эта открывала свой рот только для замечаний. Обычно вышивала. А если к ней и подходили, то отвечала честно или холодно — по настроению.
И раз уж так выходит, что её келья ночью открыта... Шанс. Это шанс. Который нужно принять во внимание.
Только через несколько секунд до девичьего мозга дошло, что тишина стала слишком явной. Вынырнув из мыслей, обнаружила, что Владислав слишком пристально её рассматривает. Будто в голову пытается залезть.
Сжала руки, чтобы не выдать ни единой эмоции.
— Ты, я смотрю, зачастила, — подметил, прислонившись к стене плечом. — Чего так?
Внутри сразу разгорелось клокочущее «Как не соврать?». Спроси это монахиня или воспитанница, то Мариамна бы с легкостью что-то придумала. Но сейчас... Медленно, словно в попытках выиграть себе время, произнесла:
— Тут... — она окончательно отошла от окна, — лучше. Спокойнее.
А чернокнижник пытался докопаться до чего-то. До ответа на лишь ему известный вопрос. Но, не найдя лжи в словах, качнул головой.
Девушка не знала, почему он относился к ней так. Со странной снисходительностью, смешанной с опаской. Отходил, потому что понял важность дистанции, открывал створки, давая насладиться мимолётным чувством свободы, но в то же время постоянно проверял и словно нутром чувствовал её замысел. А может, лишь предполагал? Или по натуре был недоверчивый.
Ладно, не суть. Главное, что она пока нигде не прокололась.
Когда время закончилось, монахини сопроводили её до привычного цеха. По сравнению со свежестью в кабинете наставника, тут можно было задохнуться. Сморщившись, девушка начала работать. Из этих странных исповедей выводился совершенно неожиданный плюс. Знание русского языка постепенно возвращалось.
Хоть сложные предложения формулировать было непросто, она пыталась. Иногда хмурилась из-за забывчивости, но собеседник быстро подсказывал — он щёлкал пальцами и, будто вызывал нужное слово в воздухе. Раздражало. Его говор трогал что-то в её усталом безразличии, напоминая о детстве. Ощущалось так, будто влезли куда не стоило.
Владислав всегда говорил на её родном, словно пытаясь показать, насколько смешное совпадение — два бесноватых человека, владеющих русским, да ещё и в одном помещении. Иронично. Забавно. Мариам сначала закатывала глаза, но потом поняла, что если оставит английские словечки для остальных, а с ним будет говорить проще, то это сыграет в её пользу. Ещё один пункт для схожести. А значит, и для сближения. Совсем немного, и можно будет заговорить о побеге. Конечно, издалека, но это точно поселит в его голове нужные мысли о помощи и содействии.
Через пару дней большинство монахинь отошли в церковь по соседству для каких-то дел. В помещении сразу стало так тихо и свежо, словно на шее чуть приспустили удавку. Но труд не отменили, очевидно. Зато провернуть кое-что стало проще.
Выскользнув из подсобки и оглядевшись, девушка прошлась до левого крыла. Аккуратно, вслушиваясь в каждый звук, но не сбавляя поспешного шага. Надо было проверить ту дверь на кладбище, обозначение которой она нашла в комнате Владислава.
Перед глазами рябили тёмные двери, напоминая больше кучу одинаковых досок, поставленных в ряд. Белые стены были всё те же, с одинаковыми светильниками, что противно мерцали вечером. Кажется, нужное место было близко. Едва прошуршав сарафаном, она завернула за угол. Тут уже темнее. Прищурившись, дёрнула вроде бы нужную ручку. Где-то в груди глухо билось сердце, запуская мозг и заставляя его думать активнее, но не паниковать. Главное, чтобы её отсутствие на погрузках не заметили.
Дверь была заперта.
Совершенно ожидаемый факт, который всё же поселил чувство разочарования. Почему всегда должно быть так сложно?
Сцепив зубы, Мариамна присела, повертев механизм в разные стороны и заставляя тот позвякивать. Замок был старым, ходящим из стороны в сторону и наверняка хлипким. Выбить? Взломать? Глупость. Если пытаться разбить эту конструкцию, то скорее отлетит девичий локоть, чем металл. Да ещё и шумихи можно такой наделать... Мало не покажется. А если взламывать, то есть большой риск быть пойманной. Ночью темно, днём тут постоянно шастают монахини. Найти ключ? Попросить? Владислав не даст — это наверняка только укрепило бы его подозрения.
Сложно.
За такими умозаключениями её застала другая воспитанница. Подошла резко, незаметно, заставляя вздрогнуть и быстро, почти инстинктивно вскочить с пола. В голове сразу начали крутиться шестерёнки. Что ж этой рыжей малявке неймётся? Работы мало? Почему тут? Что сказать?
Но лицо оставалось каменным.
— Что ты делаешь? — нахмурила светлые брови девчушка. Коричневый сарафан висел на ней ещё большим мешком, чем на остальных. Наверное, размер так и не подобрали.
— Я... — пожала плечами, — искала помещение, чтоб взять белье на отправку. Машина уже подъехала?
— Подъехала, — ответила, рассматривая, как собеседница отступает от двери, складывая руки за спиной. — Но я не помню, чтобы монахини в левое крыло что-то приносили.
— Не думаю, что тебя будут обо всём оповещать.
Повисло молчание.
— Я расскажу матушке Агнес, — произнесла рыжая, вскидывая веснушчатый подбородок.
— Что?
— Грех не искупить, если от работы отлынивать и вечно пытаться бежать.
Это были не её фразы. Очевидно, не по своей воле двенадцатилетняя воспитанница стала повторять за настоятельницей и свято верить в любое слово. Отвратительно. И наблюдая за остальными такими же неразумными детьми, ей хотелось врезать Владиславу посильнее. Она не понимала как. Не понимала почему. Но чётко знала, что тот со своими бесами заморочил головы окружающим.
Сжав челюсти от внезапно накатившего раздражения, девушка сделала шаг назад. Ей нельзя попадаться так глупо. Скоро терпение этих чёрных балахонов иссякнет и путь дорога будет лежать в психиатрическую клинику. Вслед за Анной.
Нет, нет.
Но как назло в коридоре послышались шаги. Быстрые, стучащие. Трущиеся друг об друга чётки создавали своеобразный треск, от которого тело всегда замирало. Непроизвольно.
Эта груда костей и органов, правда, всегда леденела при опасности — так, что даже пальцем пошевелить становилось трудно, не то что действовать. За это впору было себя ненавидеть.
Но сегодня произошло по-другому. Впервые.
Глухие стуки туфель разносились в голове, но к ним ещё примешался странный звон. Чужой. Заполняющий все клеточки тела и дающий шанс отступить дальше. А в следующую секунду она побежала. По незнакомому, полутёмному коридору, стараясь не оборачиваться на писк собеседницы и шарканье рясы.
И в этот момент о сокрытии молила точно не Господа.
Стены сливались в какую-то кашу, тёмные глаза живо бегали по помещению. Слева зал с пыльными стульями в ряд, прямо перед ней нежилая комната, заваленная хламом. Её вел внутренний голос. Чутьё, что взяло пальцами за макушку и направляло в нужную сторону, как неразумную куклу. Появлялась мысль «Куда?», сразу возникал очевидный ответ.
Право.
Залетев в более узкий, почти незаметный коридор, она смогла перевести дыхание. Надо было мыслить логически.
Стараясь привести голову в порядок, огляделась. Пол выложен светлой квадратной плиткой, сбоку окна, выходящее во двор и две двери. Аккуратно шагнув ближе, посмотрела на улицу. Было понятно, что надо вернуться к остальным. Чтобы ей не смогли предъявить наказание за вольности или, не дай бог, попытку побега — стоило проникнуть обратно на рабочее место.
И каково было удивление, когда вместо травы, забора или мусора, по ту сторону Мариам увидела машину. Ту, в которую они всегда загружали постельное бельё для небольшой школы пансиона, и ту, чей водитель сейчас абсолютно легко и спокойно беседовал с Грейсин. Смешки, улыбочки, зрительный контакт. Монахиня даже не подозревала, что отвлекала мужчину от слежки за товаром. Это шанс.
Напряжённый взор метнулся на дверную ручку. Только бы была открыта. Только бы...
И она действительно была. Тихий скрип заставил брови дёрнуться в почти детском удивлении. Всё складывалось слишком хорошо и удачно для того, чтобы называться просто совпадением.
Выглядело так, словно кто-то нарочно подстроил все события в нужном порядке, только потому что девушка попросила.
И подумать об этом ещё придется.
***
Воскресенье можно было различить по иному ходу службы и слишком раннему подъёму. А ещё по приезду мирских групп. После случая с Анной видеть их улыбающиеся и раскрывающиеся в лекциях рты не хотелось. Мерзко. Настолько, что хочется околеть под самым ледяным душем в приюте и содрать кожу жёсткой мочалкой. Только бы отмыть эту грязь, что липла от каждой молитвы, произнёсенной мужскими губами.
Пахло карболкой и натёртым полом. Вся пыль словно осела в носу, заставляя морщиться. Их подняли чуть свет, причитая:
— Сегодня приходят из Общества. Чтоб ни шагу в сторону, ни лишнего слова. Господь всё видит.
Мариам тошнило с самого восхода солнца. Может, предчувствие, а может, обычное понимание — придётся надевать на себя самую раздражающую роль. Смиренность. Добродушие. Послушание. И ни при каких обстоятельствах не снимать маску.
Потому что закончить в лечебнице не хотелось. А любой ненормальный порыв, любое сопротивление привели бы к одному уже известному исходу.
Кожа вокруг ногтей была безжалостно разодрана в попытках усмирить нарастающее напряжение. Стараясь игнорировать кровоточащие заусенцы, девушка поправляла коричневый воротник платья резкими движениями.
В комнате, где постоянно проводились эти собрания, всех рассадили по рядам. В первую линию — самых спокойных и ловящих каждое слово (а таких с недавних пор развелось много). Её саму запихнули подальше, ближе к середине, и подобному исходу можно только порадоваться.
Зал был наполнен тишиной и суетящимися взорами монахинь. И когда вошли семеро человек — все рассыпались в кивках, фальшивых улыбках и любезностях. Воздух сразу стал плотнее. Разглядывать гостей не было особого смысла: те всегда выглядели похоже — двое с книжками, один с красным галстуком и символикой общины, остальные с лицами, словно их выстругали из дерева в угоду Богу. Слишком ровными, слишком показательными. Да, иногда пришедшие улыбались, только вот глаза сверкали всё тем же холодом и отстранённостью. Не появлялось ни одной искренней морщинки в уголках.
— Да будет благословен день этот, — нежно сказала одна из женщин, поправляя брошь на светлом твидовом кардигане.
Лицемеры.
Лекция шла складно. О покаянии, грехах и о том, что всякая гордость ведёт к погибели, даже молчаливая. Мужчины в тёмных костюмах жестикулировали, говорили о Господе так, словно тот из первых уст передал им истину. Воспитанница старалась не кривить губы. Как можно считаться верующими после того, что они делали с девушками? С Анной?
Легко. Подумалось сразу.
Они раскаиваются, и с них снимаются все прегрешения.
Того священника Бог тоже простил. Так легко и просто, словно не он держал ее за руки. Словно не он затыкал рот и лез под юбку. Молитва — и снова святой. Только почему Мариамне приходится день за днём стирать с себя кем-то навешанную вину? Оттирать жгучим порошком вместе с кожей рук, разъедая не только сопротивление, но и личность.
— Дочери заблудшие... — откашлявшись, произнёс проповедник с бородой, в которой проглядывались нотки седины. И тот, который всё то время, что говорил, встречался глазами с ней. И сегодня. И на прошлой неделе. — Быть женщиной значит быть сосудом благодати, но одно неловкое движение, и он может разбиться. Мы здесь, чтобы помочь вам склеить осколки. Не бойтесь обращаться. Искренние слова к Отцу нашему небесному — это самое ценное, что может быть.
Переборов первую мысль — сморщиться в отвращении, она лишь впилась ногтями в сидение стула и опустила взор. Хотелось скрыться с чужих глаз, раствориться в плитке под ногами, став пятном на поверхности. Остальные слова пролетали мимо ушей, пока ритм сердца слишком шумно стучал внутри. Мысли витали в другом русле, и когда её плечо тронула матушка Агнес, девушка вздрогнула, очнувшись.
— Мариамна, встань, — подтолкнув её жёсткой рукой, прошептала. — Брат Эвлан хочет с тобой поговорить.
Живот скрутило.
Она вскинула взгляд из-под ресниц и увидела не сестру, а лишь чёрный балахон, который недовольно проворчал: «Давай, давай, не задерживай гостей». Когда тело поднялось со стула, а ноги сами сделали несколько шагов вперёд, ей показалось, что сознание осталось где-то там, меж блеклых рядов.
— Дитя моё, пройдёмся? Сегодня Господь одарил нас удивительно замечательной погодой, — мягко начал тот самый мужчина, что вещал с трибуны.
Он едва заметно коснулся пальцами девичьего локтя, будто по-отечески заботливо подводя к выходу. Горло дёрнулось, и воспитанница подавила рвотный позыв, стараясь развести губы в подобии улыбки.
— Да, на улице и правда чудесно, — выжала из себя, сжимая края сарафана. Неосознанно.
Лицо не чувствовало касаний весеннего ветерка, а шелест стриженного газона казался искусственным. Собственные шаги и мысли воспринимались чужими, далёкими. Может, голову бы заволокло туманом окончательно, если б не липкий страх, расползающийся по позвоночнику. Удушливыми волнами он шёл всё сильнее, обхватывая каждую мышцу и кость, проникая в ткани. Ногти вцепились в ладонь, пытаясь сдержать водоворот и оставить лишь непроницаемую маску на бледном лице.
Собеседник что-то говорил о молитвах, спрашивал о приюте, о родителях. Она соврала. Обо всём.
Фразы уплывали за край сознания и было трудно вспомнить хоть какие-то факты из собственной биографии. Нету права на отказ. Иначе скажут, что против Бога идёт, против людей его. Опять. И упекут куда подальше.
Нельзя.
Нельзя, когда побег уже обдуман.
Зубы прикусили щеку с внутренней стороны.
Перетерпит, не умрёт. Лучше так, чем в лечебницу. Правда? Лучше?
Тело почти затрясло, когда в глотке встали те чувства. Давние, которые она так пыталась вытравить сначала протестом, потом молитвами. Бессилие. Ужас. Слабость. Отвращение. Желание размозжить себе голову о стену, чтобы никогда не вспоминать.
Всё это бушевало внутри, пока две пары ботинок оставляли след на тропинке. Возле оградки показался зеленый сарай. Там никто не услышит. Никто не поможет.
Нет.
Нет.
Нет.
Мариамна прикрыла глаза, сжимая челюсти. Про беса даже не вспомнила, интуитивно понимая, что любой всплеск от нечисти подарит ей путёвку в один конец. Кости ломало, жгло, выворачивая изнутри. От мужчины несло чем-то мыльным и сырым, вперемешку с потом. Не хотелось это видеть, ощущать его касания в полуобъятии, слышать притворные интонации.
Когда ресницы снова взметнулись вверх, она заметила... Владислава. У забора.
В животе дернулась отвратительная... надежда? Девушка втянула воздух, не отрывая глаз от знакомого силуэта. Вспыхнула ненависть за то, что посчитала себя достойной этой помощи, что вдруг решила — наставник может это сделать.
Их взгляды пересеклись на мгновение. Такое короткое и неясное.
Что-то в образе бесноватой девицы дрогнуло, раскололось, разлившись в тёмной радужке отчетливым:
«Пожалуйста.»
Она никогда бы не стала просить. Особенно нечто важное от человека, которого хотела лишь использовать. Но сейчас... Попалась в свою же ловушку с доверием. И не могла ничего с этим поделать.
Шаг, ещё шаг.
В ушах звенит, когда чернокнижник отходит от ограды и приближается. Он... Понял?
— Доброго дня, — начинает парень, вглядываясь в проповедника. — Я духовный наставник в этом приюте. Матушка Агнес попросила срочно найти Мариамну. Какие-то проблемы с отгруженными партиями.
Голос его был чётким и приобрёл уверенную угловатость, проскальзывающую в акценте. А вот взгляд исподлобья всегда заставлял собеседников тушеваться. Как и сейчас. Брат Эвлан сжал губы, но ладонь с чужого локтя убрал.
— Очень жаль, — быстро пришёл в себя. — Ну ничего, в следующий раз продолжим, да, Мари?
От такой формы имени лицо чуть не перекосило. В боли, в отвращении. Но воспитанница смогла быстро кивнуть, отворачиваясь. Проповедник знал и специально давил туда, куда не стоило.
Осознание происходящего настигло её только в келье Владислава. Мозг отказывался помнить, как ноги вошли в здание, как поднялись до сюда, как сели на кровать. Дымка. Поморгав, огляделась. Те же светлые стены, та же мебель и скромная обстановка, и он. Стоял неподалеку хмурясь, и губы его шевелились в вопросе. Каком? Не знала. Не могла разобрать, понять, осмыслить. Или не хотела, предпочитая сжимать клочок чужой простыни в руке.
— Всё нормально? — повторил.
Трогать нельзя было, приближаться тоже. Что делать Череватый не знал. Но знал, каково это — дрожать, когда эмоции потрошат брюхо на живую и заставляют скрутиться от бессилия.
Бесы нашептали ещё в первый раз: «эту попортили да выкинули ». Тогда он не обратил внимания, ведь тут у большинства так. Сейчас — чувствовал. И не мог отвернуться.
— Я знаю, что было бы, если... Если б не ты, — шёпот прозвучал глухо, выдавлено. На сбивчивом английском. Повисла пауза. — Зачем?
— Я ж видел, как ты глянула.
Девушка дрогнула. Видел. Никто никогда не обращал внимания — на неё, а особенно на какой-то там взор. А тут... Секундный.
Все размышления обвалились, как скрипучий мост, когда в голову ударило осознание, вперемешку со слишком знакомыми нотами, витающими в его комнате, как от догоревшей свечи. Обычно это не тревожило. Но сегодня, после пережитого, накатило чересчур резко. Картинки. Страх. Чужие касания. Грудную клетку спёрло, словно ей отвесили удар под дых. Воздуха не хватало. Она не хотела показывать слабость, вызывать жалость или быть в подобном виде перед ним. Это отходило от правил игры, что затеялась. Отходило и меняло... Всю суть.
Но перехватить контроль не удалось. Мыслями была уже не здесь. Там. В затхлой исповедальне три года назад.
Как наяву слышались отрывистые фразы, шёпот. Тяжесть. Чья-то ладонь, прижимающая вниз. Запах свечного воска, смешанный с ладаном. Его частое дыхание у виска. Молись, дитя моё.
Ты ведь хочешь очиститься?
Зажмурившись, девочка дрогнула. Собственные пальцы дёрнули то ли за волосы, то ли поцарапали шею, в попытках найти и закрыть уши. Чтобы не слышать. Убрать. Извести. Это же нереально? Лишь приступ. Надо только дышать.
— ...Мариам?
Слова смешались с мерещащимися криком и скрипом.
Она пыталась выкинуть картинку из сознания.
Она видела двери исповедальни, в которые вдавливала ногти.
Она не могла различить очертания приютской комнаты.
Хотелось выть.
Ладони стали липкими, хотя вокруг было холодно. Лёгкие отказались работать нормально. Только через несколько секунд воспитанница рвано вздохнула, подобравшись назад и вжимаясь в стену.
— Мариам, — раздалось уже громче.
Его силуэт мелькнул впереди, и тело едва самовольно не вскочило, повинуясь желанию забиться в самый дальний угол. Потребовалось усилие, чтобы по-настоящему распознать наставника, а не тень.
Владислав больше не стоял у входа, а присел перед ней на одном уровне, ловя зрительный контакт.
— Что это было?
Спрашивал ровно, без нажима, словно ответ очевиден. Ему точно очевиден.
Захотелось прошипеть что-то гневное, но язык прилип к нёбу. Дыхание было тяжёлым, будто она только что бежала. В груди задрожало бессилие.
— Ты бледная, — продолжил он.
Ногти сами по себе давили на остатки кожи вокруг пальцев, причиняя отрезвляющую боль. Девушка резко выдохнула, пытаясь заставить себя успокоиться, восстановить ритм.
— Ничего, — всё-таки сумела пробубнить. Но голос сорвался.
Наставник молчал, пристально её изучая, и от этого взгляда становилось ещё хуже. Потому что умел смотреть внутрь, копошиться в сокрытом даже без манипуляции и слов.
Всё вокруг по-прежнему казалось зыбким, нереальным, но уже не таким удушающим.
Мариамна морщилась от звона в ушах. И никаких больше дурацких «Ты в порядке?» не прозвучало, потому что, очевидно, ответ был бы лживым. Он просто сидел. Достаточно близко, чтобы она его видела. Достаточно далеко, чтобы ей не казалось, что существует угроза.
Минуты тянулись. Стучала стрелка часов. Тишина переставала быть такой гнетущей.
— Мне нужно остаться здесь. Чуть-чуть, — сквозь зубы сказала воспитанница и сжала простыни.
Не знала, зачем произнесла это вслух, но Влад не спросил почему. Не спросил, как ему потом оправдываться перед монахинями. Просто кивнул, делая какие-то выводы.
— Останься.
***
Прошло пару дней, и даже наказания от матушки не последовало. Это было... удивительно.
Переварить события оказалось сложнее. И дело не в проповеднике — те воспоминания трансформировались в беспорядочные обрывки, проблема была в наставнике. Теперь он смотрел по-другому, словно вместо неё красовалось что-то личное и давнее. Не Мариамна О'Дерван, а неведомое отражение собственной сломленности, вперемешку с борьбой. Только вот она просто хотела быть личностью. Не предметом жалости и спасения, а равной и знающей.
В начале было понятнее. Не разговор, а партия в шахматы, где было достаточно правильно поставить фигуру. Сейчас же разметка перепуталась, а фразы приходилось рубить наугад, осторожничая и отстраняясь.
Внутри в истерике билось ощущение упущенного времени. Вместо молчков на «исповедях» можно было надавить на их схожесть или использовать приступ, как отвод подозрений. Чтобы заставить поверить в её искренность. Даже через слабость.
Но мысли разрывались громким «Убежать», «Закрыться», «Справиться в одиночку». Собственные установки не давали закончить начатую игру. Даже думалось действительно это бросить — до побега оставалось недолго, всё было в её руках, разве что, кроме ключа от кладбища. Если там есть пристройка, то наверняка в ней найдутся и вещи, и какие-нибудь инструменты. Предметы, в существовании которых, стоило убедиться заранее. А дальше не сложно. Взломать дверь общей спальни сможет, забраться в кабинет Виктории... Вероятно, но, если не повезет, спички пойдут в ход. Отвлекающий манёвр.
Потом деньги, погост, одежда и выход со стороны поля. К лесу. В Уолтерстауне можно будет взять такси. Документы... Их нет. Ладно, с этой стороны к вопросу можно подойти чуть позже.
— Заявилась и молчит, — прерывает её поток сознания голос Владислава.
Воспитанница, стоявшая как обычно у окна, повернулась. Сжала зубы. Между ними трещало что-то невысказанное, но гремящее отчётливым: «Один разговор или разрушает, или строит».
В голове крутились шестерёнки. Первый план был другим — привязать и выжать максимум помощи. От открытых дверей до личного сопровождения. Но это всё было долго, а с сегодняшними исходниками и вовсе невозможно. Оставалось лишь... пойти ва-банк. Он поймёт, ради чего было это общение, скорее всего, поймёт и про задуманный побег. Если все диалоги задели хоть каплю его души, то к монахиням парень не отправится, а вот коль всё же осмелится, то сам себя раскроет, уж об этом она позаботится.
— Проведи меня на кладбище. Нужно, — тон веял прохладой и окончательно принятым решением.
Руки были сцеплены за спиной, чтоб не выдать напряжения. В случае, где все карты разыграны верно — согласится.
Чернокнижник сначала повернул голову, удивившись прямоте. Потом только густые брови вскинул в снисходительном: «Да ты что?». Видно было, догадался. Не откровенность. Не дружба. Просто план. Она ищет выход. Он ей для этого нужен. Но всё же — не было лжи. Ни разу Мариам ему не солгала. Лишь недоговаривала. И это, может быть, даже хуже.
На какое-то мгновение парень даже поверил в хрупкую попытку доверия между ними, особенно, когда помог и Мариам не ушла. Осталась, позволяя ему видеть и даже подойти ближе чем на ярд. Это могло быть прогрессом. Но не стало.
Повисла тишина.
Чересчур долгая и окрашенная задумчивостью на мужском лице. И это раздражало. Не потому, что был должен ответить — нет, вовсе нет, — а потому, что молчание снова напоминало: он размышляет. Смотрит сквозь, сканирует, распутывает нити. Или заплетает новые? Однако в груди всё в ожидании встрепенулось. Она списала на стресс, это же не может быть важным — знать, как поменялось его отношение?
— Вот думаю, — заговорил в конце концов глухо и вкрадчиво, — сколько времени ты таскала эту просьбу за зубами.
— А есть разница? — выдохнула в ответ.
— Никакой.
От повисшего напряжения желудок скрутило. Воздух в некогда свежем кабинете отдавал металлическим привкусом, неприятно оседающим в глотке.
— Сегодня вместо вечерней молитвы. Отпрошу.
Наставник... слишком быстро согласился. Это поселило яркую искру сомнения и заставило прищуриться. Выдохнула. Наплевать. Главное, что она получит своё и игра стоила свеч. Остальное — потом.
***
Ключ повернулся в замке с глухим щелчком. По позвоночнику пробежала дрожь. Но отступать было некуда.
Когда дверь распахнулась, двое скользнули на территорию. Владислав по-хозяйски прошел вперед и огляделся. В его тёмной радужке едва заметно поблёскивало напряжение вперемешку с сомнениями. Пальцы поправили воротник бадлона.
Девушка же замерла, сглотнув. Перед ней открылось пространство, овеянное пасмурной тоской и заползающим в душу холодом. Кресты. Одинокие и забытые. В голове зашумело — может, это были бессвязные мысли, а может, просто трепетание листьев на ветру. Её конец будет... здесь? Если не попытается, если не сбежит куда глаза глядят. Под горкой земли и без опознавательных знаков. Так собак хоронят. Точно не людей.
Сжав кулак, всё же шагнула вперёд, пытаясь запомнить детали. Значит, заросшие мелкой травой дорожки шли рядами, а слева действительно красовалась пристройка, серая такая, со старыми досками и, может быть, дряхлым замком. Увлеченная анализом, воспитанница прошлась дальше, стараясь отделаться от чувства наблюдения.
То ли парень приглядывает, то ли нечто другое. Жутко.
Отбросив все страхи, что навязчиво старались прилипнуть к коже, она разглядела ворота. Те были уже не такими высокими, как у официального входа, но закрытыми. Зато за ними открывалось просторное поле и кромка леса, шелестящая в вечерней мгле.
Быстрый поворот к зданию. Цепкий взгляд. Окна сюда не выходят.
Выдохнув, пальцами потянулась к прутьям, словно пытаясь нащупать явь и осознать: «Реальный мир близко. За какими-то чёртовыми железками». И там есть жизнь. Настоящая. Не кочующая от работы до обморока и наказания.
Увлечённая прощупыванием замков ворот и пожухлой пристройки, не сразу обратила внимание на едва слышный шёпот среди могил. Потому что собственные мысли буквально перекрикивали друг друга, пытаясь построить верную стратегию.
— Да прошу тебя о помощи, через беса, через супостата, через духа нечистого. — разлилось шипение, задевая верхушки перекошенных крестов. — Говорю, давай вместе творить, да прошу тебя о помощи. Твори, говорю, отворяй ворота.
Внутри дёрнулась плотная энергия, заставляя вздрогнуть и обернуться. В теле — тягучая вибрация. Зубы стиснулись сами по себе. Что вообще происходит? Кровь в венах бурлила отчётливым "Уходи", но каким образом? Бежать меж захоронений, притаптывая землю?
Владислав стоял на перекрёстке, прикрыв глаза.
Ресницы дрогнули в осознании — он привел её сюда не по просьбе, не из жалости, а потому что самому так нужно было. И интуиция свербила неприятным пониманием, что вляпались они оба по самую глотку. Вляпались и запутались, перевязавшись в нитях, что сами так тщательно плели.
Наплевав на здравый смысл, подошла на пару шагов вперед. Голова закружилась. И что парень сделает? Бесов позовёт? Чьих? Зачем? Наплевать, нужен ключ. Украсть и сбежать, если её попытаются остановить, то придётся выкинуть последний козырь.
Небо нахмурилось, поднимая холодный ветер и заставляя листья качаться почти истерично. Волосы взметнулись в такт погоде.
Куда же он его положил? В карман? Или в руках оставил?
— Что ты делаешь? — голос потонул в его начитках.
— Если ты собралась съёбывать, — медленно обернулся. — то с беснёй своей не сможешь. Схавает тебя быстрее монахинь. Я уберу аккуратно, чтоб он мозги тебе не морочил. Ещё не поздно.
— Что?
Мариамна попятилась, удивлённо взметнув брови. Она помнила, как хотела убрать эту дьявольщину: выкинуть и не вспоминать. Но... что-то изменилось. Больше не хотелось избавляться. Жадность, обычная человеческая жадность не давала отказаться от силы могущественной и в перспективе полезной. Если уметь с ней обращаться, конечно.
Это с ней с детства — часть истории, жизни, которая почти слилась с телом воедино и подначивала мать прозвать дочь злом во плоти, да непутёвой девкой. Только отнюдь не оно упекло её в приют, не оно говорило, что таким грешницам не искупить вины вовек. Всё остальное дело рук людских и наигранно-святых. Тех, кто поступает хуже дьявола, облачаясь в рясы.
И теперь убрать беса?
Нет.
Нельзя.