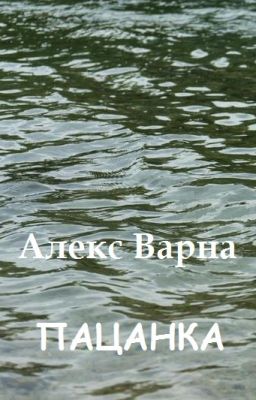Глава 32
рассказанная Александром Степовым
− Оставь. Я не умею танцевать. Ну не мое это – и все!
Женя, нервно покусывая край губы, переминалась с ноги на ногу под тихую мелодию вальса, что лилась из динамиков моего старенького магнитофона. Когда-то (приблизительно лет сто назад) я и сам часами вот так мучился, пытаясь вечерами освоить этот танец к своему выпускному, чтобы не ударить в грязь лицом перед самой красивой одноклассницей − Любой Ткачук. Тогда вальс помог мне вырвать умопомрачительный поцелуй, не утративший своей сладости даже несмотря на то, что был первым и последним для нас с Любой – она, где-то через неделю после выпускного уехала к тетке во Львов, чтобы поступить то ли в театральный, то ли еще в какой-то там вуз. Моя скорбь по этому поводу была недолгой, зато сам вальс намертво засел в памяти, позволяя мне теперь строить из себя великого танцора.
Моей ученице, конечно же, не хватало изящества, но ее непонятно откуда появившаяся робость казалась очень даже симпатичной. Словно на какое-то мгновение тонкий нежный цветок печально кивнул своей прекрасной головкой в такт порыву ветра. Хотя, опомнившись через мгновение, опять вспомнил о своих шипах и возможном коварстве чужих жадных рук:
− Вот скажи, на кой мне этот выпендреж сдался?
− Здрасьте, приехали! А кто мне жаловался, что в ее техникуме новогодний бал, а она себя белой вороной ощущает?
− Уж лучше быль белой вороной, чем придурошной курицей!
− Ой-йо-йой! В жизни не видел девушки, не любящей танцевать.
− Считай, тебе нынче повезло! Вот она я − любуйся!
«А я и любуюсь» − чуть было не сорвалось с моих губ, но вместо этого прозвучало:
− Трусишь?
− Чего?!
− Того, что можешь показаться смешной и неуклюжей.
− Глупости!
− Если так – дай мне руку и прекрати артачиться. В вальсе нет ничего сложного или крамольного. Все просто и естественно, − приобняв Женю настолько целомудренно, насколько это было возможно в танце, я начал мягко ее вести по траектории квадрата. Тонкая струна ее спины почти что звенела под моими пальцами, дыхание нет да нет, а прерывалось, выдавая волнение и абсолютно беспочвенный страх девушки.
− Раз-два-три, раз-два три... Чего ты так напряжена? Улыбнись. Расправ плечи. Вообще, расслабься.
− Я не...
− Не опускай голову! Ты танцуешь, а не грибы собираешь.
− У меня ноги заплетаются.
− Ничего. Расплетутся как-нибудь сами. Оставь их в покое. Меньше думай и больше слушай музыку.
− Как я музыку услышу, если ты все время трындишь?
− Мадам, обычно женщины в состоянии делать несколько дел одновременно, распределяя соответственно свое внимание. Это в вас как бы природой заложено.
Вконец сбившись с ритма, Женя нервно меня оттолкнула и отвернулась, скрестив руки на груди:
− Значит, я исключение. Оставь это, Сань. Никогда не танцевала и впредь не собираюсь. Не мое это. Понятно?
− Ты очень быстро сдаешься.
Словно соглашаясь с этим утверждением, магнитофон замолчал, в который раз зажевав кассету. Последующая минута молчания представилась мне затишьем перед бурей. Казалось, вот сейчас девчонка соберется с мыслями, найдет слова поострее и... как ринется в бой! Но мои опасения оказались напрасными.
− И вправду так считаешь? – всхлипнула она и устало опустилась на свою кровать, которую я отсунул к самому окну, пытаясь ради урока танца расширить свободное пространство в нашей комнате.
− Нет, ну...
− А знаешь, ты прав. Я всего лишь полгода живу под твоим прикрытием, а уже свершено расслабилась: сижу в тепле-добре, бегаю на занятия, словно та пай-девочка. Я совсем забыла, что нужно любыми путями искать бабки, чтобы смотать в Италию. Я предала свою мечту и саму себя! Попросту сдалась!
− Глупости, Жень. Зачем тебе ехать в чужую страну? В неизвестность? К матери, ставшей тебе тоже чужой? Хочешь ее вернуть или лишь наказать, напомнив о ее грехе и своем существовании? Но она, уверен, и так страдает. Пусть даже изредка, когда остается одна, она не находит себе места, невольно вспоминая брошенную на произвол судьбы свою маленькую дочурку.
− Это ты так думаешь.
− Это так и есть. Угрызения совести еще никто не отменял. И что самое неизбежное – их усугубляет тихо подкрадывающаяся старость. Потому не желай отплатить своей матери той же недоброй монетой – с ней рассчитается сама жизнь. А вот когда ты найдешь в себе силы для прощения и просто захочешь увидеться, чтобы примериться с ней и с самой собой – тогда, пожалуйста, и езжай.
− И что же мне делать до этого твоего «всепрощения»?
− Радуйся, дуреха, каждому солнечному дню! Да, и вытри, наконец-то, свои сопли.