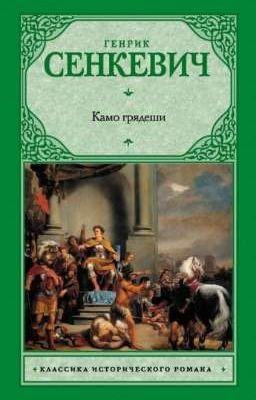глава 19
Нерон играл и пел гимн в честь "владычицы Кипра", и стихи и музыка были его сочинения. В этот день он был в голосе и чувствовал, что его музыка действительно захватывает слушателей; это придавало особую силу звукам его голоса и так взволновало его душу, что он казался действительно вдохновленным. Под конец он даже побледнел от волнения. И, вероятно, в первый раз в жизни ему не хотелось слышать похвал и одобрений. Некоторое время он сидел, положив руки на кифару и опустив голову, потом вдруг встал и сказал:
— Я устал и хочу подышать свежим воздухом. Настройте пока кифары.
И он закутал горло шелковым платком.
— Вы пойдете со мной, — обратился он к Петронию и Виницию, сидевшим в углу зала. — Ты, Виниций, дай мне руку, потому что я ослаб, а Петроний будет говорить о музыке.
Они вышли на посыпанную шафраном алебастровую террасу дворца.
— Здесь легче дышать, — сказал Нерон. — Моя душа растрогана и печальна, хотя и вижу, что с моим пением, какое вы только что слышали, я мог бы выступить публично и что это был бы триумф, какого не получил еще ни один римлянин.
— Ты можешь выступить здесь, в Риме, и в Ахайе. Я преклонялся перед твоим искусством и сердцем и умом, божественный! — ответил Петроний.
— Знаю. Ты слишком ленив, чтобы заставлять себя произносить вслух похвалы. Ты искренен, как Туллий Сенеций, но ты больше понимаешь. Скажи, что думаешь о музыке?
— Когда я слушаю стихи, когда смотрю на квадригу, которой ты правишь в цирке, на прекрасную статую, на прекрасный храм, я чувствую, что моя душа охватывает то, что перед моими глазами, и что в моем восхищении умещается все, что могут дать эти вещи. Но когда я слушаю музыку, в особенности твою, передо мной открываются новые красоты и наслаждения. Я стремлюсь постигнуть их, схватить, но, прежде чем успеваю сделать это, наплывают еще новые и новые, как волны моря, идущие из бесконечности. И я скажу тебе: эта музыка подобна морю. Мы стоим на берегу, видим даль, но увидеть другой берег не можем.
— О, какой ты глубокий знаток! — сказал Нерон.
Они гуляли некоторое время молча, и шафран тихо шелестел под их ногами.
— Ты высказал мою мысль, — сказал наконец Нерон, — и потому-то я всегда говорю, что ты один в Риме можешь понять меня. Да. И я то же думаю о музыке. Когда играю и пою, я вижу такие вещи, о существовании которых не подозревал даже. Я — цезарь, мир принадлежит мне, я все могу. Однако музыка открывает передо мной новые царства, новые горы, моря, новые наслаждения, которых я не знал раньше. Часто я не умею назвать их, понять даже, я их только чувствую. Чувствую богов, вижу Олимп. Какой-то внемирный ветер овевает меня, я вижу сквозь туман какие-то неизмеримые громады, спокойные и светлые, как восход солнца… Сферы поют вокруг меня, и я признаюсь тебе… (голос Нерона взволнованно задрожал), что я, цезарь и бог, чувствую себя маленьким, чувствую себя прахом. Поверишь этому?
— Да. Только великие художники могут чувствовать себя маленькими перед лицом искусства.
— Сегодня ночь признаний, открою тебе душу, как другу, и скажу еще больше… Неужели ты считаешь меня слепым или лишенным разума? Неужели ты думаешь, что я не знаю, как в Риме на стенах пишут обо мне оскорбительные вещи, зовут меня матереубийцей и женоубийцей… что считают меня чудовищем и жестоким, потому что Тигеллин добился у меня нескольких смертных приговоров для моих врагов?.. Да, мой дорогой, меня считают чудовищем, и я знаю это… О моей жестокости говорят так много, что я сам порой задумываюсь, не жесток ли я в самом деле… Но они не понимают того, что дела могут быть жестоки, когда сам человек нисколько не жесток. Никто не поверит, и даже ты, мой дорогой, может быть, не поверишь, что иногда под влиянием музыки, когда растрогана моя душа, я чувствую себя таким добрым, как дитя в колыбели. Клянусь тебе звездами, которые горят над нами, что говорю тебе искреннюю правду: люди не знают, сколько хорошего лежит в этом сердце и какие сам я вижу в нем сокровища, когда музыка раскрывает мою душу.
Петроний, который нисколько не сомневался, что Нерон говорит в эту минуту искренне и что музыка действительно способна вызвать самые благородные склонности его души, заваленные горами эгоизма, разврата и преступлений, сказал:
— Тебя нужно знать близко, как знаю я. Рим никогда не мог оценить твоей души.
Цезарь сильнее оперся на плечо Виниция, словно склонился под тяжестью несправедливости, и ответил:
— Тигеллин мне передавал, что в сенате шепчутся, будто Диадор и Терпнос лучше меня играют на кифаре. Мне отказывают даже в этом! Но ты, который всегда говоришь правду, скажи искренне: играют ли они лучше, или так же хорошо, как я.
— Нисколько. У тебя нежнее удар, и в то же время больше в нем силы. В тебе виден художник, а они искусные ремесленники. Наоборот, слушая их игру, начинаешь лучше понимать тебя.
— Если так, то пусть они живут. Они никогда не будут знать, чем обязаны тебе в настоящую минуту. Впрочем, если бы я казнил их, пришлось бы приглашать на их место новых.
— И люди говорили бы, что из любви к музыке ты истребляешь в государстве музыкантов. Никогда не убивай музыки ради музыки, божественный!
— Как ты непохож на Тигеллина, — сказал Нерон. — Но я художник во всем, и так как музыка открывает передо мной новый мир, о существовании которого я не знал, царства, которыми я не владею, наслаждение и счастье, которых я не ведал, то я и не могу жить как обыкновенный смертный. Музыка говорит мне о существовании сверхъестественного, и поэтому я всеми силами, какие дали мне боги, ищу власти над ним. Иногда мне кажется, что нужно совершить для того, чтобы проникнуть в этот олимпийский мир, нечто такое, чего до сих пор не совершил ни один человек, — нужно стать выше людей в добром или в злом. Знаю, что люди считают меня безумцем. Но я не безумен, я лишь ищу! А если безумствую, то лишь от скуки и нетерпения, что не могу найти. Я ищу, понимаешь меня? И потому я хочу быть большим, чем обыкновенный человек, потому что лишь таким образом могу быть великим художником.
Он понизил голос, чтобы Виниций не мог его слышать, и, наклонившись к уху Петрония, стал шептать:
— Знаешь, я потому именно и казнил жену и мать. У врат неведомого мира я хотел принести величайшую жертву, какую может принести человек. Я думал, что потом произойдет нечто, откроются какие-то двери, за которыми я увижу неведомое. Пусть это будет чудеснее или ужаснее обычного, лишь бы это было необыкновенным и великим… Но этой жертвы оказалось недостаточно. Для того чтобы отверзлись двери эмпирея, нужно, очевидно, большее, и пусть произойдет то, чего хочет рок.
— Что ты намерен сделать?
— Увидишь, увидишь скорее, чем думаешь. Пока же знай, что есть два Нерона: один такой, каким знают его люди, другой — художник, которого знаешь один лишь ты и который, если и губит, как смерть, безумствует, как Вакх, то делает это потому, что душит его пошлость и обыденность жизни и он хотел бы уничтожить ее огнем и железом… О, как ничтожен будет мир, когда меня не станет!.. Никто и не подозревает, даже ты, мой дорогой, какой я великий художник! Но именно потому я терплю и говорю тебе искренне, что душа во мне бывает часто такой печальной, как эти кипарисы, которые чернеют перед нами. Тяжело нести на плечах в одно время тяжесть высочайшей власти и величайшего таланта…
— Я сочувствую тебе, цезарь, от всей души, а вместе со мной и земля и море, не говоря уж о Виниции, который обожествляет тебя.
— Он мне всегда был приятен, хотя служит Марсу, а не музам.
— Прежде всего он служит Афродите, — ответил Петроний.
И он решил сразу устроить дело племянника и в то же время устранить все опасности, которые могли угрожать ему.
— Он влюблен, как Троил в Крессиду, — сказал Петроний. — Позволь ему, государь, уехать в Рим, потому что он сохнет от любви. Та лигийская заложница, которую ты подарил ему, была наконец найдена, и, уезжая в Анциум, Виниций оставил ее на попечении некоего Лина. Я не сказал тебе об этом, потому что ты слагал гимн, а это важнее всяких других дел. Виниций хотел сделать ее своей любовницей, но так как она оказалась добродетельной, как Лукреция, то он влюбился в ее добродетель и хочет взять ее себе в жены. Она царская дочь, поэтому его достоинство не пострадает, но он, как истинный солдат, вздыхает, сохнет, стонет, но ждет разрешения от своего императора.
— Император не выбирает жен своим солдатам. Зачем ему мое разрешение?
— Я говорил, что он тебя обоготворяет.
— Тем более может быть уверен в разрешении. Это красивая девушка, но узка в бедрах. Августа Поппея жаловалась, что она сглазила наше дитя в Палатинских садах…
— Но ведь я доказал Тигеллину, что божество нельзя сглазить. Помнишь, божественный, как он смутился? И ты сам воскликнул: "Habet!" "Теперь ему конец!"
— Помню.
Нерон обратился к Виницию:
— Ты любишь ее так, как говорит Петроний?
— Да, государь! — ответил тот.
— Повелеваю тебе завтра утром ехать в Рим, жениться на ней и не показываться мне на глаза без обручального кольца.
— Благодарю тебя, государь, от всего сердца, от всей души.
— Какая радость делать людей счастливыми, — сказал цезарь. — Я хотел бы всю жизнь делать это.
— Тогда окажи нам еще одну милость, божественный, — сказал Петроний. — Объяви о своей монаршей воле в присутствии Августы Поппеи. Виниций никогда не решится взять в жены женщину, к которой Августа питает неприязнь, но ты, государь, успокоишь одним словом ее предубеждение, заявив, что брак заключается по твоему повелению.
— Хорошо, — сказал цезарь, — тебе и Виницию я ни в чем не могу отказать.
И он повернул к двору, они же шли следом с сердцами, полными радости. Виниций с трудом удержался, чтобы не броситься на шею Петронию, потому что теперь, казалось, все препятствия и опасности были устранены.
В атриуме молодой Нерва и Туллий Сенеций развлекали Августу беседой, Терпнос и Диодор строили кифары. Нерон сел в инкрустированное кресло и шепнул что-то мальчику-греку.
Мальчик тотчас вернулся с золотым небольшим ларцом. Нерон открыл его, выбрал ожерелье из крупных опалов и сказал:
— Вот сокровища, достойные сегодняшнего вечера.
— В них играет заря, — ответила Поппея, уверенная, что ожерелье предназначается ей.
Цезарь то поднимал, то опускал розоватые камни, любуясь их игрой. Потом он сказал:
— Виниций, подари от меня это ожерелье молодой лигийской царевне, которую я повелеваю тебе взять в жены.
Гневный и изумленный взор Поппеи перебегал с цезаря на Виниция и наконец устремился на Петрония, но тот, небрежно развалившись в кресле, водил рукой по грифу арфы, словно хотел хорошо запомнить его форму.
Виниций, горячо поблагодарив цезаря за подарок, подошел к Петронию и сказал:
— Чем я тебя отблагодарю за все, что ты сегодня для меня сделал?
— Принеси Евтерпе в жертву двух людей, — ответил Петроний, — хвали песни цезаря и смейся над предчувствиями. Надеюсь, что теперь рычание львов не будет мешать вам спать — тебе и твоей лигийской лилии?
— Нет, теперь я совсем спокоен.
— Пусть Фортуна будет милостива к вам. Но теперь слушай, потому что цезарь вновь берет кифару. Затаи дыхание, слушай и роняй слезы.
Цезарь действительно взял в руки кифару и поднял глаза к небу.
Разговоры прекратились, все приготовились слушать. Только Герпнос и Диодор, которые должны были вторить цезарю, поглядывали, качая головами, то друг на друга, то на Нерона, ожидая первых тактов песни.
Вдруг в сенях раздался шум и крик, потом завеса раздвинулась, и из-за нее показался Фаон, вольноотпущенник цезаря, а с ним консул Леканий.
Нерон нахмурил брови.
— Прости, божественный император, — воскликнул запыхавшийся Фаон, — в Риме пожар! Большая часть города в огне!..
При этом известии все вскочили со своих мест; цезарь положил кифару и сказал:
— Боги!.. Я увижу пылающий город и кончу свою "Трою"!
И он обратился к консулу:
— Выехав немедленно, успею ли я увидеть пожар?
— Государь! — ответил бледный как мел консул, — над городом море пламени; граждане задыхаются от дыма, люди впадают в безумие от ужаса и бросаются в огонь… Рим гибнет, государь!
Наступило молчание, которое было вдруг прервано воплем Виниция:
— Горе мне, несчастному! Горе!
И молодой трибун, сбросив тогу, в одной тунике выбежал из дворца.
Нерон поднял руки к небу и воскликнул:
— Горе тебе, священный город Приама!..